Алфавит Юрия Мамлеева
Философская азбука автора «Шатунов»
На днях исполнилось пять лет с того дня, как ушел из этого иллюзорного мира Юрий Витальевич Мамлеев — один из крупнейших русских писателей XX и XXI столетий, подаривший литературе жуткое чудо под названием «Шатуны». «Горький» составил алфавит Юрия Мамлеева, в который вошли истории о философе с женским именем Таня, Борхесе и Берроузе, о влиянии Южинского кружка на редакционную политику газеты «Мегаполис-экспресс» и многом другом.
А — Америка
В то время как Эдуард Лимонов (1943—2020) оценивал преимущества холодных кислых щей (их пять), сидя полуголым на балконе последнего, 16-го, этажа гостиницы «на Мэдисон-авеню, там, где ее пересекает 55-я улица», Юрий Мамлеев был достаточно неплохо устроен в социальном смысле. Он преподавал русскую литературу в Корнельском университете в Итаке, его жена Мария работала там же в библиотеке. Устроиться в университет получилось далеко не сразу, было много мытарств и неопределенностей, но все-таки американская история Мамлеева многим благополучнее аналогичной лимоновской. Из Советского Союза они эмигрировали почти одновременно, в Америке Мария Мамлеева работала в «Новом русском слове», откуда Лимонова изгнали за его «Разочарование», после чего он устроился в дом призрения: «дерьмо в буквальном смысле за всякими разрушенными субъектами убирать, задницы им вытирать» и т. д. — все это известные страницы биографии Эдуарда Вениаминовича.
Но — при столь разных ситуациях — и на Лимонова, и на Мамлеева Америка произвела впечатление тягостное. «Цивилизация голого чистогана», где «обсуждать политику или религию вообще запрещено, <...> некомфортно говорить о таких серьезных вещах».
«В Корнельском университете преподавал Набоков <...> здесь мы познакомились с семьей, которая хорошо его знала. <...> один из профессоров <...> как-то разговорился с Набоковым о Достоевском. Набоков недолюбливал Федора Михайловича — ну, что ж, вольному воля. <...> профессор вдруг прервал его и сказал: „Не понимаю, почему мы до сих пор сидим здесь и говорим о Достоевском? Рабочий день давно закончился”».
Мамлеев посвятил США соответствующий цикл рассказов.
Б — болезнь
В 1950-е врачи констатировали у писателя хронический нефрит — болезнь почек. Об этом Юрий Мамлеев рассказывает в «Воспоминаниях», которые писал в последние годы (книга вышла после его смерти).
Это «послужило неким внешним толчком, который определил мою жизнь и повел ее в том направлении, в каком мне действительно было нужно <...> это во многом сразу разрубило все проблемы, которые стояли передо мной, и они решились в том ключе, что я просто решил оборвать все мои связи с миром в социальном плане и быть одному».
Юрий Мамлеев максимально сосредотачивается на творчестве, сведя к минимуму все остальное. Он устраивается преподавателем математики в вечернюю школу (работает дважды в неделю), иногда дает частные уроки.
«По этому диагнозу жить оставалось максимум лет пятнадцать, если чудо — то двадцать. А мне всего двадцать шесть».
Юрий Витальевич Мамлеев покинул этот мир в возрасте 83 лет.
В — вино
«Вино» следует понимать максимально широко: не только как общее название для всяких алкогольных напитков, будь то собственно вино, водка или портвейн, но и мистически, как о том писал суфийский поэт Омар Хайям:
Принесите вина — надоела вода!
Чашу жизни моей наполняют года,
Не к лицу старику притворяться непьющим,
Если нынче не выпью вина — то когда?
В суфизме обыденное мировосприятие символизируется водой, интуитивное — молоком, пророческое — медом, а наивысшее, экстатическое, разрушающее границы «я» — вином.
«Помню, уже <...> в Америке, один из эмигрантов (забыл его фамилию) написал где-то в газете громкие слова: „Всем хорошим в себе я обязан водке”. <...> Самое интересное, что впоследствии, во время эмигрантской жизни в 1970–1980-х годах, во время возвращения и жизни в России в 90-х годах и в XXI веке, алкоголь не имел и тени того таинственного воздействия, которым он обладал для нас в 60-е годы. <...> Более того, алкоголь в наше время, сейчас, в XXI веке, на мой взгляд, приобрел какой-то черный, негативный оттенок», — пишет Юрий Мамлеев.
Г — Головин
Евгений Головин (1938—2010) в дополнительных представлениях не нуждается. Он «оказался в первом ряду тех эзотерических людей, коих немного и которые характеризовали метафизику Южинского» (см. букву Ю).
Обросшая легендами биография: чтение стихов Рембо и Малларме, лежа на железнодорожных рельсах в контексте приближающегося поезда, встреча с кикиморой и пропитый паспорт (документ был оставлен в ресторане в качестве залога, но за ним не вернулись).
«Равнодушие и презрение Жени к социуму, к какому-либо социальному успеху принимало порой апокалиптический характер. Как он существовал, вообще было непонятно. Такое, пожалуй, возможно только при социализме. На Западе он бы просто пропал. Да, насколько я знаю, он получал что-то за свои переводы европейской поэзии. Блестяще перевел „Пьяный корабль” Рембо. Европейские языки он знал великолепно и мог бы войти в плеяду блестящих переводчиков западной литературы. <...> Но он презрел эту возможность. Его интересовала только та европейская литература, от которой советские редакторы пришли бы в ужас или в столбняк».
 На фото: вверху — Владимир Степанов, Игорь Дудинский, Евгений Головин и Гейдар Джемаль; слева — Борис Козлов и Юрий Мамлеев (перед эмиграцией); справа — Сергей Жигалкин и Александр Дугин
На фото: вверху — Владимир Степанов, Игорь Дудинский, Евгений Головин и Гейдар Джемаль; слева — Борис Козлов и Юрий Мамлеев (перед эмиграцией); справа — Сергей Жигалкин и Александр ДугинД — Джемаль / Дудинский / Дугин
Одни из завсегдатаев Южинского.
Гейдар Джемаль (1947—2016) — председатель Исламского комитета России, общественный и политический деятель, философ.
Игорь Дудинский — отец режиссера Валерии Гай Германики, советский и российский журналист, сотрудник легендарной газеты «Мегаполис-экспресс», показавшей, как рассказывает сам Дудинский, что «вокруг общества есть тайные силы, которые влияют на развитие: всякие черти, демоны, инопланетяне, колдуны, <...> которым повинуются силы тьмы и силы света. И вот эта борьба сил света и тьмы отражается на социуме, социум бурлит».
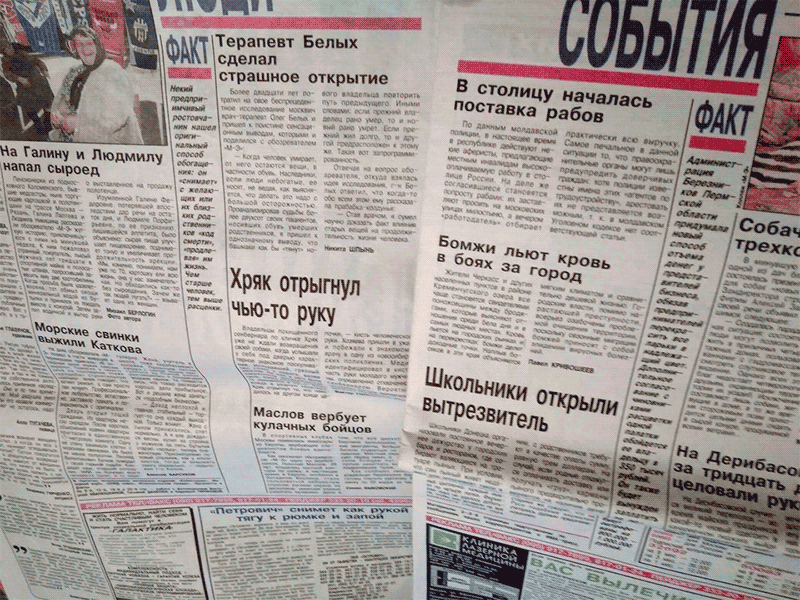 «Мегаполис-экспресс», №17, 1997 г.
«Мегаполис-экспресс», №17, 1997 г.Александр Дугин — российский философ-традиционалист, доктор политических и социологических наук, кандидат философских наук. До 2014 года возглавлял кафедру социологии международных отношений социологического факультета МГУ. Лидер Международного Евразийского движения. В 2016–2017 гг. — главный редактор телеканала «Царьград ТВ».
Е — Елизаров
Писатель Михаил Елизаров — лауреат литературных премий «Русский Букер» (за роман «Библиотекарь» в 2008 году) и «Национальный бестселлер» (за роман «Земля» в 2020-м), исполнитель песен собственного сочинения. О Мамлееве:
«<...> я был тщеславен и однажды поделился [своими] опусами с московской кочующей богемой. Они мне бросили снисходительно: „Мамлееву подражаешь?” Я, предельно невежественный, мало читал и не знал, кто такой Мамлеев. <...> меня <...> накрыл экзистенциальный ужас — я не уникален в своих мыслях, в видении мира! Более того, я понял, что живет человек, писатель, который почувствовал эту поврежденность намного раньше меня. <...> я затосковал и на какое-то время охладел к своим рассказам. Решил — буду лучше певцом.
 Второй этап — личное знакомство. <...> Я подошел к нему почтительно и нерешительно, что-то промямлил: „Счастлив видеть, читаю, бесконечно уважаю”. А Мамлеев очень тепло ко мне отнесся, пригласил в Переделкино, где они жили — Юрий Витальевич и Мария Александровна, его супруга.
Второй этап — личное знакомство. <...> Я подошел к нему почтительно и нерешительно, что-то промямлил: „Счастлив видеть, читаю, бесконечно уважаю”. А Мамлеев очень тепло ко мне отнесся, пригласил в Переделкино, где они жили — Юрий Витальевич и Мария Александровна, его супруга.
<...> то, что жило в его текстах, отсутствовало в Мамлееве-человеке. Он не считал нужным транслировать в быту свою литературную ноту. Как если бы вообразить диктора Левитана, который у себя дома не может выйти из тембрального образа и произносит „Подайте-ка чаю” тем же голосом, которым „Сегодня! Освободили! Город! Курск!”»
Ж — живот
Многие герои Мамлеева довольно часто обращаются к этой части тела, «жалея живот свой», поглаживая. Часто это образ некоего нутряного, сонного, «животного» спокойствия. Но не всегда.
«Вернулась Марья. Тяжелым взглядом проглядев сцену, она решила, что ничего не существует, кроме нее самое. Плюхнувшись на диван, она стала гладить свой живот.
— Куда, куда улетели... птицы?! — иногда бормотала она сквозь сон.
<...>
Во сне Марья умудрялась играть в кубики, которые лежали около ее тела. В забытьи она расставляла их на своем брюхе. Целый дворец возвышался таким образом у нее на животе».
«<...> поэт Игорь Холин так закончил одно свое стихотворение, опубликованное в самиздате <...>:
Он лег отдохнуть у кирпичной стены,
А утром с него были сняты штаны.
Другой режим, даже тоталитарный, расхохотался бы на такие стишки, погладил себя по животику и непременно бы опубликовал. А тут послышались возмущенные отклики в прессе, что все неправда, как будто у советских людей не было штанов, чтоб их можно было снять. А тут еще сентенции о подрыве марксистско-ленинской идеологии <...>».
«<...> Ребятишек нас у матери было двое: я и сестра Клавдия. Но мать моя меня пужалась из-за моей глупости. В кровь я ее бил, втихаря, из-за того, что не знал, кто я есть и откудава я появился. Она на живот указывает, а я ей говорю: „Не то отвечаешь, стерва... Не про то спрашиваю...”»
(«Шатуны»)
З — зияние
Для латиноамериканских прозаиков XX века центральным художественным методом был магический реализм (сочетание обыденности и мистики), а для Мамлеева — метафизический реализм (не путать с метареализмом). Сквозь мир посюсторонний, хорошо известный и порою даже уютный, сквозит и просвечивает другая реальность — жуткая, непонятная, вряд ли желающая нам чего-то хорошего. Грани смещаются, просвечивают и зияют — сквозняк вводит в ступор или экстаз.
«Это началось с ноги, когда он проснулся на кровати и стал кричать. Кричал он не помня самого себя. Но потом прислушался и заметил, что кричит уже не своим голосом. Голос был явно чужой. Он выпучил глаза: зеркало было застлано тьмой.
И тогда в нем из глубин его существа стала подниматься превращенная в душу черная тень. Тень росла и росла, отнимая у него прежнее существование. Маратов стал маленький, как абсолютный идиот, и оказался внутри своего черного существа, которое разрослось почти до потолка, так что исчезли тараканы.
<...>
Но — даже будучи тенью — нельзя было не идти на работу, ведь надо зарабатывать знаменитые доллары. Без божества невозможно жить.
Но самым последним атомом своего сознания Маратов боялся идти преподавать (как раз кончился отпуск), ибо как может — думал он — черная тень преподавать? Это все равно, как если бы преподавал труп, скаля зубы и объясняя поэзию Байрона или Блока. Один только указательный палец был бы живым.
<...> черная тень ушла преподавать. И долго-долго потом газеты писали о массовом помешательстве среди студентов».
 Юрий Мамлеев. Фото: из личного архива Юрия Мамлеева
Юрий Мамлеев. Фото: из личного архива Юрия МамлееваИ — индуизм
В целом для советского эзотерического подполья то или иное восточное учение было притягательно просто по факту своей «восточности», однако эта мода вовсе не означала, что каждый третий был специалистом по постканонической Абхидхарме (классическому, еще индийскому, буддизму) или адвайта-веданте. Что касается последней, то она окажет на Мамлеева значительнейшее влияние, несмотря на то, что Юрий Витальевич всегда позиционировал себя как православный христианин. Думается, ключевое здесь — манифестационистская специфика (мир рожден из Творца и в конечном итоге и есть сам Творец), а не креационистская (мир сотворен ex nihilo (из ничто), мир и Творец принципиально разделены).
« <...> человек <...> прекрасно осознает, что он — не „Джон”, „Майкл”, „Петр” и т. д., а бесконечная духовная реальность внутри себя. Иными словами, <...> человек бесповоротно расстается с представлением о себе как об индивидуальном, ограниченном феноменальным миром существе (или воспринимает такое «существо» только как свою оболочку)».
В 1990-е, по возвращении из Франции, Юрий Мамлеев преподавал индийскую философию в МГУ.
К — куро-труп
Один из невозможных персонажей паноптикума Юрия Мамлеева, герой романа «Шатуны» (см. букву Ш). Когда-то его звали Андрей Никитич, потом он сошел с ума от страха перед смертью.
«Почему-то из всех случаев послесмертной жизни ему лезли в голову самые поганые. Он так ошалел от страха, что вдруг вынул из-под подушки шашки и стал сам с собой разыгрывать партию — рядом, на ночном столике, кряхтя и отхаркиваясь. <...> А на утро, после сна, произошло что-то совсем несусветное и дикое; соскочив с постели в одном нижнем белье Андрей Никитич заявил, что он умер и превратился в курицу.<...> А за завтраком — во дворе — все были потрясены: Андрей Никитич соскочил со стула и махая руками, как крыльями, с воплями „ко-ко-ко” бросился к зерну, которое клевали несколько куриц. Распугав кур, он встал на четвереньки и начал как бы клевать зерно. <...>
Куро-труп с изумлением посмотрел на Падова, подскочил и мертвенно-желтым, как у повешенной курицы, лицом, клюнул его в щеку.
— Его смотрели психиатры? — спросил Падов.
<...> — Перед твоим приездом наехал их тут целый табор. И, знаешь, психику признали нормальной, только чуть суженной. Просто у Андрея Никитича, дескать, снизился интеллект...
<...>
— Я просто мертв, — вдруг ответил Андрей Никитич на обыкновенном человеческом языке».
Л — Летов
«Кругом — необъятная, распухшая реальность Юрия Мамлеева», — констатировал Егор Летов (1964—2008) еще в 1990-е.
О близости творческого метода писателя и поэта пишут научные работы, да и в целом академический мир породил небезынтересное явление — Летовский семинар.
«— Вас любил Егор Летов...
Ю. М.: Да. Он пригласил нас на концерт, там он такое творил, а за кулисами предстал тихим, нежным человеком».
(Интервью Сергею Шаргунову для Colta)
 Егор Летов в гостях у Марии и Юрия Мамлеевых
Егор Летов в гостях у Марии и Юрия МамлеевыхМ — Макконки
Джеймс Макконки, американский писатель, с которым Мамлеев познакомился в США. Макконки публиковал рассказы и отрывки из «Шатунов» на английском (в журнале, где был главным редактором). Автор статьи об американском издании «Шатунов».
Макконки познакомил Мамлеева с Джоном Чивером (1912—1982):
«Он часто разъезжал по университетам и, как и мы, дружил с Макконки. Это был замечательный писатель, к тому же пьющий, что вообще было трогательно. В университете даже был заведен обычай: перед выступлением Чиверу выделяли маленькую комнатку, где он мог спокойно выпить. Мне очень понравился этот человек».
Организовал встречу с Борхесом (1899—1986):
«Потом приезжал Борхес, но уже слепой. Поэтому он не мог читать „Шатунов”, в отличие от Макконки или Чивера, да и как к нему могла попасть книга русского автора, изданная в Америке? Тем не менее у нас с ним состоялась беседа, он почему-то горячо жал мне руку, я что-то рассказывал...»
И с Уильямом Берроузом (1914—1997):
«<...> автором небезызвестного „Голого завтрака” <...> Он был в восторге от моего романа, и несмотря на жуткий перевод и купюры, почувствовал подтекст, почувствовал, что за этим стоит. Берроуз хвалил меня, и его окружал ореол мистического писателя. Это объяснялось тем, что многое в его творчестве было основано на наркотическом опыте, и этот опыт был, безусловно, глубок. Но вот что касается его визионерства, оно как раз было весьма ограниченно. В газетах, которые пишут всякую чушь, особенно касательно литературы, его визионерство сравнивали с визионерством Данте. При всем моем уважении подобное сравнение — просто нелепость. Визионерство Данте было основано на традиционализме, на глубинной религиозной медитации, прорывах в тот мир, а у Берроуза... Конечно, это были прекрасные прорывы, но они не выходили за рамки сферы психического».
Джеймс Макконки ушел из этого мира 24 октября 2019 года в возрасте 98 лет.
Н — нигредо
Алхимическая «темная ночь», начальная стадия на пути к альбедо и рубедо.
«Мне рассказывали случай, как двое молодых русских музыкантов попали в Берлине в очень тяжелое положение и решили покончить жизнь самоубийством. Накануне им попался в руки самый мрачный мой роман „Шатуны”. Они попеременно читали его вслух всю ночь, и у них родилось обратное желание: жить во что бы то ни стало. Может, в этом и есть тайна катарсиса? В моих вещах проглядывает то, что в алхимии называется „принципом Нигредо”, черноты. Им обозначается первый этап просветления, который заключается в том, чтобы осознать всю трагичность жизни и, осознав ее, перейти к более высокому уровню».
(Интервью Игорю Шевелеву)
О — откровение
Тот или иной инсайт настигает героев Мамлеева не так уж и редко. А вот что сам писатель рассказывает об откровении, случившемся с ним в 1953-м:
 Юрий Мамлеев в детстве
Юрий Мамлеев в детстве«<...> произошел поворот, благодаря которому я стал писателем.
Это было своеобразное глубокое озарение, которое стало результатом реализации особого видения мира и людей и способности видеть их самые закрытые, темные, глубинные стороны, которых они сами в себе не подозревали. В моих героях (в будущем, конечно) стали раскрываться черты невидимого человека, невидимого даже для самого субъекта этих скрытых сторон. Но тем не менее этот невидимый человек мог определять жизнь того или иного героя, хотя тот мог этого и не подозревать».
П — психиатрия
Описание тех или иных пограничных состояний у Мамлеева достоверностью своей приближается к медицинскому анамнезу — еще бы, ведь его отец был психопатологом.
«Не психиатром, а именно психопатологом — это более широкое понятие, объемлющее любые нарушения в психике человека, в том числе не имеющие отношения к собственно психическим болезням, а являющиеся просто определенными искажениями характера, скажем, под влиянием среды или иных факторов. <...> Наша квартирка в Южинском переулке была буквально завалена литературой по психиатрии и психопатологии, которую я в ранней юности с интересом изучал».
«— Скажите, больной <...> Вы что, действительно никогда не были в бреду?
— Никогда, — трусливо оглядываясь на врачей, пробормотал Горрилов.
<...>
После таких слов Горрилов почувствовал себя совершенно ненормальным и отрешенным от людей.
„И ведь действительно я ни разу не бредил; даже ни разу не воображал себя пастушком, как все нормальные люди, — подумал он и вытер ладонью пот. — Боже, какой же я выродок и как я одинок!”»
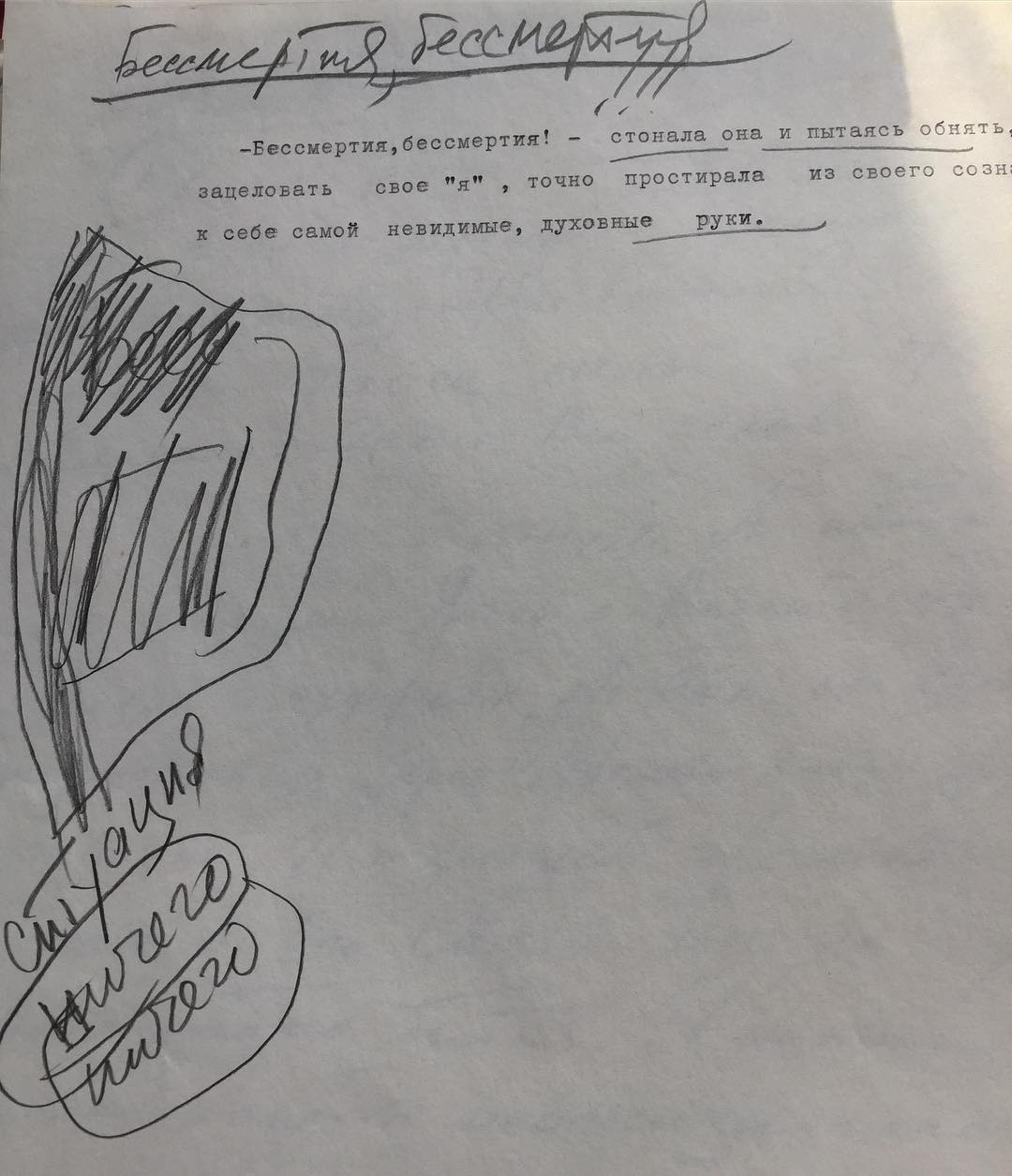 Рукопись
РукописьР — «Россия Вечная»
Фундаментальный труд Юрия Мамлеева, посвященный исследованию русского национального духа в его проявлениях в культуре, искусстве, истории и философии.
«Начнем с небольшого шедевра Пушкина „Два чувства дивно близки нам”. Это стихотворение, по существу, является поэтической объективизацией космического значения родины: не только России, но и Родины вообще. Пушкин здесь интуитивно угадал или, точнее, переоткрыл древнейшую эзотерическую мудрость: для человека место его рождения важнее всей вселенной, ибо это та точка, то место космоса, которое астрологически и духовно определяет внутреннюю суть родившегося человека. Оно действительно дано человеку „по воле Бога самого”, поэтому отказ от родины, духовный отказ от родины является, по сути, актом самоубийства, гораздо более страшным, чем физическое самоубийство, ибо это отказ также от самого себя, от своего главного предназначения, от своей внутренней интимнейшей сути, от своего духовного сердца. Результатом этого отказа может быть только смердяковщина в его пародийно-космическом смысле, как выражение предательства по отношению к своему собственному сердцу, к своей душе <...>».
С — сон
Сон как пограничное состояние, а также метафора духовного забвения довольно часто присутствует в книгах Мамлеева.
«Появилась Настя через год после пропажи. Из лесу вышла. И понял сразу народ: во сне она, хоть и ходит. Бывает такое на белом свете. Красивая, такая же как была, волосы золотистые, лицо — белое и глаза — голубые, но в глубоком, глубоком покое. И такой бездонный этот покой был, что всем страшно стало. А идет прямо, без улыбки и не узнает никого. Бились, бились с ней и радетели, и деревня вся — видят, не пробудить ее от сна. Радетели с горя умерли, но Настя жить во сне осталась.
<...>
— Ты думаешь, что проснулась? Напрасно. Ты спишь не более глубоким сном, чем раньше. Ты не пробудилась, а заснула во сне еще одним сном. Неужели ты не чувствуешь это?
Оглянулась она все-таки, побежала, за дерево схоронилась — и вдруг поняла: правду говорил голос, в глубоком сне она, не было никакого пробуждения. Разве не сон все вокруг? Оттого что ярко он виден так, что ощущает она его, как явь, еще не значит, что не сон это. „Живой сон еще страшнее мертвого: ибо и в голову не придет, что это лишь сновидение”».
Т — таблоиды
Как и Федор Достоевский, многие сюжеты Юрий Мамлеев черпал из жизни — в том числе изучая криминальную хронику. Пожалуй, это самые страшные сюжеты мамлеевской прозы.
Так, о ребенке, встретившем вора и убийцу своих родителей словами «Христос Воскресе!», Мамлееву рассказал священник (рассказ «Вечерние думы»).
Преподавая по вечерам в школе рабочей молодежи, он узнал, что причина долгого отсутствия одного из учеников в том, что «он на спор, на водку, надел на себя два пальто, выпрыгнул с шестого или седьмого этажа и разбился насмерть» («Макромир»).
История о женщине, в пароксизме ярости превратившей в кашу кисти рук своего трехлетнего сына за то, что он испортил дорогой ковер (кисти ампутировали, а женщина повесилась), — к прискорбию, тоже реальная («Ковер-самолет»).
У — ужас
Тема ужаса для писателя неисчерпаема, но за всякой «темной ночью» у Мамлеева рябит пусть микроскопическая, пусть и неявно, но все-таки надежда или хотя бы намек на нее... Пусть и не для конкретного героя, а как месседж читателю. Она всегда где-то есть в мамлеевских книгах — в каждой.
В этом отношении проза Мамлеева, как он сам подчеркивает, принципиально «некафкианская».
«Но при всей „тяжести” и „угрюмости” нашего полета, дух неконформистской Москвы и в том числе дух Южинского круга никогда не был заражен депрессией, безысходностью, кафкианством. Кафку мы, конечно, более или менее чтили, но кафкианство не было нашим свойством, безысходность никогда не была нашим знаменем, даже при такой фантастически-отчаянной ситуации XX века <...>»
Франца Кафку, кстати, Альбер Камю обвинял ровно в обратном — в отходе от экзистенциального пессимизма и в резком «скачке» в сторону обнадеживающего пути землемера к «Замку» — роману, «который можно назвать теологией в действии». Но история эта совсем другая — и финал ее принципиально открыт, поскольку «Замок», как мы знаем, не дописан.
 Ф — философия
Ф — философия
Относительно Мамлеева это, конечно же, прежде всего философия традиционализма (Рене Генон, Юлиус Эвола), а также философия восточная во всем ее доступном многообразии, труды мистиков.
«<...> от человека, каких бы он ни достиг высот, всегда что-то будет скрыто, всегда будет тайна... Однако отдадим должное традиционализму — сила его бесспорна, он проверен тысячелетиями и ведет к тому, без чего абсолютно ничего невозможно сделать — к освобождению, к духовной реализации, что обеспечивает вечную жизнь. А там видно будет».
Х — Хвост
С Алексеем «Хвостом» Хвостенко (1940—2004) Мамлеев сдружился в Париже, во вторую свою эмиграцию.
«Он работал во Франции даже маляром. Маше он по этому поводу сказал:
— А что еще делать поэту в Париже?
Он был очень остроумный, веселый, компанейский. Он мог говорить на любую тему, и поэтому вокруг него крутилась вся эмигрантская парижская богема. Одним из самых удивительных качеств Хвостенко была, на мой взгляд, та необыкновенная, почти райская легкость, с которой он проходил по жизни. <...> Он очаровывал людей и был лишен малейшей враждебности по отношению к ним. Он был поэтом, который, пожалуй, должен был жить, скажем, в Петербурге начала XX века, а не в грозной атмосфере современности, и эту грозность и тревожность он как бы не признавал. Для него был только полет — полет жизни, полет вина, полет дружеской беседы, и он жил, не обращая внимания на быт, не думая о деньгах и не зная всех тех тупых забот, в которые погружен современный обитатель большого города. <...> Он принимал абсолютно всех, никакие политические убеждения и прочая чушь для него роли не играли. Он умел видеть в человеке самое лучшее, что в нем было».
Ц — цензура
До миграции у Мамлеева и мысли не было о том, чтобы опубликовать что-то в СССР (кроме как в самиздате). Однако внешняя советская цензура странным (или, напротив, закономерным) образом способствовала тому, что внутренний писательский цензор отключился напрочь.
«<...> я стремился к своего рода компенсации за невозможность публиковаться, то есть проявляться как нормальный писатель, поскольку касательно „Шатунов” нечего было и думать о какой-то их „легализации” — они оставались подпольным романом в строгом смысле этого слова. И компенсацией явилась возможность сорвать с человека все оболочки, обнажиться до предела; никакой цензуры, в том числе внутренней, поскольку, даже когда внешняя цензура отсутствует, у писателя есть цензура внутренняя, естественная, потому что он отдает себе отчет в том, что это будет опубликовано и что люди будут это читать».
Ч — Чикаго
В 1980-м в Чикаго издательство Taplinger Publishing Company публикует «Шатунов» на английском — сокращенную на треть версию романа под названием The sky above hell («Небо над адом») и несколько рассказов Мамлеева под одной обложкой.
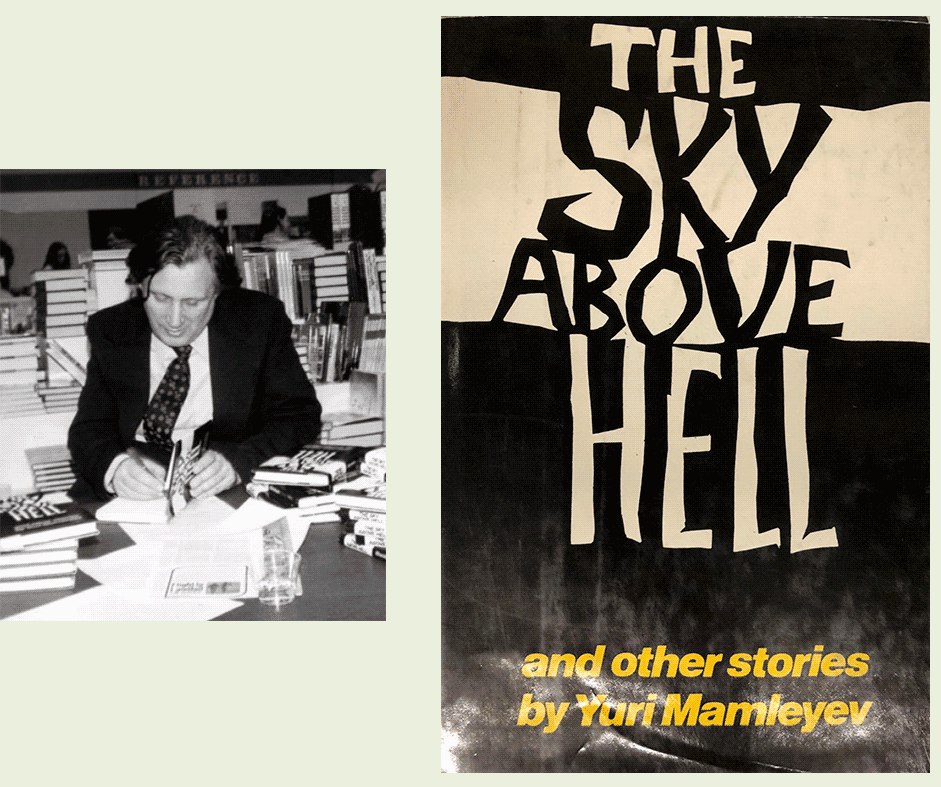 Юрий Мамлеев подписывает американское издание «Шатунов» (The sky above hell)
Юрий Мамлеев подписывает американское издание «Шатунов» (The sky above hell)Как подчеркивал сам Мамлеев, «перевод был весьма и весьма неважный». Похожая история могла произойти и с французским переводом. Как вспоминает Анн Колдефи-Фокар (впоследствие познакомившая Мамлеева с Жаном Парвулеско):
«Я не могла <...> переводить, потому что работала над другой книгой — мне было некогда. И я рекомендовала издателям одного своего знакомого хорошего переводчика. Правда, мне кажется, он согласился переводить книгу, не прочитав ее. Они подписали договор, он сдал перевод издателю. Тут мне звонят из издательства и просят прийти — проблема с переводом. Я читаю рукопись и вижу, что и правда — полная катастрофа. Мне стало жутко неудобно, это ведь я его рекомендовала. Я позвонила переводчику. Говорю: „Как ты мог? На что это похоже?” Стала его ругать. И тут он заорал: „Ты не понимаешь! Как можно переводить такие ужасы? Это не писатель — это монстр, чудовище!” Короче, он просто не смог выдержать. Что делать? Я, чувствуя себя виноватой перед издателем, предложила взять этот перевод на редактуру.
За лето я все переделала <...>»
Ш — «Шатуны»
Культовый роман, один из самых страшных и насыщенных — деяниями, образами и мыслями мамлеевских «метафизических» — по виду человеков, а в тайне неизвестно даже кем на самом деле являющихся. По определению автора, все они — «метафизические». По сути, это неологизм.
«„Метафизические”, сгрудившись во дворе, на травке, наблюдали, как Клавуша с помощью Федора заколачивает окна.
<...> Клавуша повесила несколько странных плащей на деревья. Все двинулись. „Темен, темен жир-то у Клавеньки”, — шептал Падов, вдумываясь в ее плоть. Выйдя за ворота, они, оглянувшись, увидели опустошенное гнездо: большой, деревянный дом с несколькими забитыми окнами.
Казалось, каждое его бревнышко пропиталось людским мракобесием».
Федор Соннов (кстати, опять сон — см. буква С) убивает людей казалось бы немотивированно, а на самом деле — пытаясь разгадать тайну смерти: «<...> гляжу на покойника и думаю: куда ж человек-то делся, а?.. <...> Однажды утопил я мальчика, цыпленка такого <...> в этот же день во сне мне явился: язык кажет и хохочет. Дескать, ты меня, дурак, сивый мерин, утопил, а мне на том свете еще слаще...»
Чем занимается куро-труп, мы ранее коротко обозначили (см. букву К).
А вот мудрецы из пивной:
«<...> четыре бродячих философа, которые вместе со своими поклонниками образовывали особый замкнутый круг в московском подпольном мире. Вид у них был помятый, изжеванный, движения угловатые, не от мира сего, но общее выражение лиц — оголтело-трансцендентное.
На одном личике так прямо и была написана некая неземная наглость, точно ничего вещественного для этого типа не существовало. Он постоянно плевал в свою кружку с пивом. Его звали почему-то женским именем Таня, и, хотя вкрадывалось впечатление, что его все время бьют какие-то невидимые, но увесистые силы, выглядел он по отношению ко всему земному истерически нагло, а вообще — замороченно.
Другой философ — Юра — был очень толст, мутен, словно с чуть залитыми глазами аскета, вставленным в трансцендентно-облеванную свинью; кроме того, ему казалось, что его вот-вот зарежут.
Третий — Витя — был вообще черт-те что: все пункты его лица стояли торчком, а душа по существу была сморщена. <...>
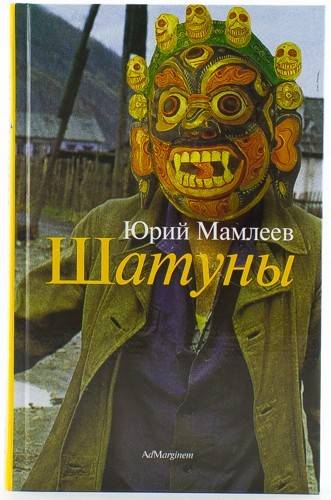 Четвертый философ был почти невидим...
Четвертый философ был почти невидим...
<...>
Ремин смотрел на все вокруг просветленно чистыми от спирта глазами.
Соберутся мертвецы, мертвецы
Матом меня ругать,
И с улыбкой на них со стены
Будет глядеть моя мать,
— пропел он, устремив взгляд куда-то в сторону».
Э — экстаз
Описание тех или иных экстатических практик (целенаправленных или спонтанных) нередко встречается у Мамлеева.
В «Шатунах» скопец дед Михей вместе со своими коллегами участвует в радениях перед портретом «самого „родимого батюшки”, „вторично пришедшего Христа” Кондратия Селиванова».
Савелий из рассказа «Нога» экзальтированно влюблен в свою ногу:
« — Почему, почему я так люблю собственную ногу?! — выл он про себя.
<...>
Ухаживание за ногой заполняло почти все основное время Савелия. Он одевал ногу в шелк, холил ее мазями, духами, хотя остальная часть тела была, как правило, не в меру грязна. Зато нога блаженствовала, как женщина. Вряд ли у Марии Антуанетты, когда ей отрубали голову, была такая выхоленная нога <...>»
А Ваня Кирпичиков из рассказа «Ваня Кирпичиков в ванне» исступленно пытается съесть самого себя:
«<...> разлегся я тогда в сухой ванне, нож о зубы свои как следоваить поточил... И нет чтобы тихо все сделать, по-интеллигентному, по-товарищески, общипать там мясцо на ляжке, приглядеться, обнюхать, облюбовать — нет, раз! как саданул что было сил в ляжку... <...> боевой ты, Ваня Пантелеич, — думаю — Бонопарте, — и почти поэт...
<...>
<...> я насчет тела своего точку поставил. Нет у меня тела — и все. А что же я тогда мыть буду?
И решил я тогда, Ваня Кирпичиков, мыть вместо себя вешалку. Куклу на нее драную, без личика, для видимости одел [Ваня Кирпичиков просторечно выражается — Ред.] — и все».
Ю — Южинский
Южинский переулок, дом № 3. Две комнаты в квартире № 3 на втором этаже в двухэтажном доме в Москве, построенном в начале XX века. Здесь Мамлеев провел детство с самого рождения в 1931 году. Сюда в 1943-м вернулся из Пензы после эвакуации.
В начале 1960-х в Южинском, уже не проживая в этих комнатах, Мамлеев устраивает чтения своих произведений. Соседи по коммуналке, знавшие его ребенком, там еще живут. Так появился легендарный Южинский кружок.
А позже дом снесли.
«<...> мы с друзьями попали туда, когда дом был уже полуразрушен, и одна из стен моей квартиры была уничтожена. И когда мы вошли внутрь, чтобы попрощаться с Южинским и выпить в его честь и в память о нем вина, мы вдруг обнаружили, что стоим словно на театральной сцене — квартира без стены выходила на улицу своей обнаженности. Мы оказались оголенными перед улицей. При этом внутри остались какие-то предметы мебели — вроде декораций, на которых мы и расселись, чтобы проводить Южинский в последний путь. И в этот момент нагрянула милиция. Почему — потому что с улицы всем было видно, что в квартире в креслах сидят молодые люди и что-то распивают. Вошед, милиция задала свои обычные вопросы, но претензии ее иссякли, когда я предъявил документ, удостоверяющий, что я бывший хозяин этого места, и объяснил, что оно дорого нам как память и что мы пришли с ним проститься <...>»
Я — «религия „я”» (утризм)
 Ранняя доктрина Мамлеева, изложенная в «Судьбе бытия». Автор оговаривается:
Ранняя доктрина Мамлеева, изложенная в «Судьбе бытия». Автор оговаривается:
«Термин „религия” здесь не оправдан, но я оставил этот текст таким, каким он был в 60-е годы — годы искании и вызова. Религия неразрывно связана с Откровением, этот же трактат носит философско-метафизический характер, смысл которого во внутренних поисках своего личного вечного Я, недоступного смерти и разложению. Следовательно, эту работу, которая здесь публикуется как отдельная глава книги „Судьба бытия”, нужно было озаглавить „Метафизика Я”».
Высказывание «Атман есть Брахман» в доктрине Мамлеева следует читать как «Я есть Абсолют» (конечно, если чрезвычайно все упрощать).
Что интересно, похожее прямым текстом утверждал суфийский мистик Мансур аль-Халладж (да и не только он, все манифестационистские традиции так или иначе об этом), но совсем в другом контексте и с последствиями в виде смертной казни.
У Мамлеева речь идет об адвайта-веданте: проявленная реальность — это инобытие Брахмана, необходимое ему для познания несвойственных ему (как Абсолюту) «вещей». Брахман «притворяется не собой», проецируя себя в проявленную реальность в виде индивидуальной души (вечная и неизменная часть которой — а не вся душа — и есть Атман).
«Религия „Я” и доктрина метафизического реализма являются попытками Мамлеева выработать характерную для современной эпохи интерпретацию Традиции, и в этом смысле совершенно очевидно, что его идеи призваны преодолеть <...> ограниченность общепринятого западного понимания Веданты. <...> философия Юрия Мамлеева является ярким примером адекватной адаптации Традиции (в данном случае — Веданты) к условиям Западного мира <...>», — так, например, интерпретируют утризм исследователи наследия Мамлеева.