8 книг о зарубежных художниках
Веласкес, Рембрандт, Сезанн и другие
Сексуальная жизнь Леонардо да Винчи, служба Веласкеса при дворе, Ван Гог и капустная кочерыжка: в очередном обзоре биографической литературы Валерий Шубинский рассказывает о современных жизнеописаниях зарубежных художников.
В прошлый раз мы говорили о жизнеописаниях русских художников. Сейчас речь пойдет о художниках западноевропейских. В отличие от других обзоров, в данном случае мы ограничимся книгами, вышедшими в одном издательстве, «Молодая гвардия», и только под грифом «Жизнь замечательных людей» (включая и малую, «дочернюю» серию). Тем не менее книги, о которых мы будем говорить, друг на друга не похожи. Одни — оригинальные, другие переводные. Да и написаны они очень по-разному.
C чего же начать? Построим на сей раз наш обзор совсем просто — по хронологии.
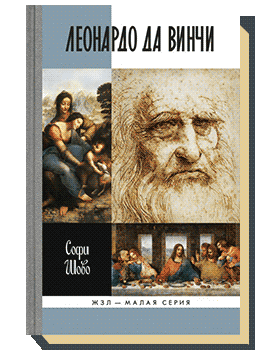 Софи Шово. Леонардо да Винчи. М.: Молодая гвардия, 2017
Софи Шово. Леонардо да Винчи. М.: Молодая гвардия, 2017
Вот новая биография Леонардо да Винчи, принадлежащая перу француженки Софи Шово. Начинает автор, прямо надо сказать, смело — как будто развенчивая «леонардовскую легенду»:
«Принадлежало ли авторство „изобретений”, на протяжении четырех или пяти веков мирно дремавших в записных книжках Леонардо, исключительно ему? Весьма сомнительно…. И даже если все эти потрясающие планы были составлены им лично, они не оказали ни малейшего влияния на развитие науки…Так что же дал миру этот знаменитый Леонардо да Винчи? Двенадцать или тринадцать картин, отдельные из которых остались незавершенными или были повреждены, а также две фрески, не дошедшие до нас в своем первоначальном виде… Сегодня нам известно, что успехом, славой среди современников и если не богатством, то, по крайней мере, благосостоянием он был обязан главным образом своему уникальному таланту постановщика-режиссера, организатора праздников-феерий, составлявших лучшие моменты придворной жизни».
Читатель заинтригован, но «сеанса черной магии с разоблачением» не происходит — следует вполне традиционный по духу рассказ о жизни гения. «В нем всё было, как иногда говорят, „слишком”: он был слишком красивым, слишком диковинным, слишком любезным, слишком умным, слишком талантливым, слишком дружелюбным, слишком сильным, слишком увлекавшимся слишком многими вещами, слишком многогранным и слишком гениальным… И даже слишком большим повесой!» — слишком обобщенная и потому слишком мало говорящая характеристика.
Впрочем, «повесой» делает Леонардо скорее сама Шово. Следуя духу времени и, может быть, идя навстречу читательскому интересу, она приписывает Леонардо бурную (гомо)сексуальную жизнь, хотя все, что мы знаем на сей счет, — это судебный процесс в молодости (закончившийся оправданием) и подозрительно горячая привязанность к одному из учеников, Андреа Солаи. И, конечно, картины, которые можно толковать по-разному. Шово в поздних картинах Леонардо видит почти исключительно гомоэротизм, взгляды и даже жесты Иоанна Крестителя и Вакха кажутся ей завлекающими, сами они — чувственными андрогинами, «вульгарными созданиями», рожденными воображением стареющего мастера. Тут поневоле вспоминаешь анекдот — «доктор, откуда у вас такие картинки?»; вспоминаешь не совсем кстати, потому что эротический аспект у этих картин, моделью для которых был Солаи, несомненно, есть. Но он далеко не исчерпывает их смыслов. Просто о сексе говорить проще, чем, например, о философии неоплатоников.
Когда же у Шово нет этой универсальной отмычки, мы, увы, слышим банальности: «…он сумел передать в своей картине материнскую любовь Марии и ее постоянную спутницу — тревогу за дитя».
Предисловие к книге Шово написано А.Б. Маховым — искусствоведом, глубоким знатоком живописи итальянского Ренессанса, постоянно сотрудничающим с ЖЗЛ. Рассмотрим теперь две его сравнительно новые книги.
Первая — о Джорджоне.
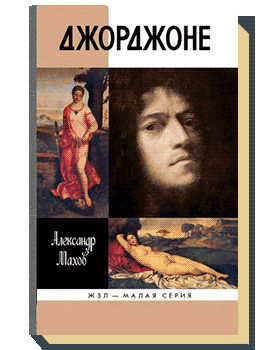 Александр Махов. Джорджоне. М.: Молодая гвардия, 2016
Александр Махов. Джорджоне. М.: Молодая гвардия, 2016
Биограф сразу же предупреждает: перед нами фигура в иных отношениях не менее таинственная, чем Леонардо.
«О нем мало что известно. Или, лучше сказать, неизвестно почти ничего… Дело осложняется еще и тем, что из дошедшего до нас оставленного им художественного наследия, пожалуй, лишь три-четыре картины не вызывают сомнения у экспертов в их принадлежности его кисти. Все остальное, а это немногим более тридцати работ, до сих пор является предметом самых противоречивых толкований».
А между тем этот «человек без биографии», «последний мистик и первый реалист Венеции», проживший (судя по тому, что мы знаем) не больше 33 лет, оказал огромное влияние на венецианское искусство. Тициан лишь через многие годы смог от этого влияния избавиться. Лоренцо Лотто, чтобы уйти от влияния Джорджоне и избежать соперничества с ним, удалился из Венеции в глухую провинцию.
Как же о таком мастере писать? Увы, Махов местами выбирает не самый, на наш взгляд, удачный способ – беллетристическую реконструкцию.
«Для ночлега он снял в полуподвале одного жилого дома тесную каморку с подслеповатым оконцем, через которое были видны только ноги прохожих. Ложась спать, ему приходилось скрючиваться на лежанке с соломенным матрасом в три погибели, чтобы не упираться ногами в стену. Но он терпеливо сносил неудобства, твердо веря, что счастье ему однажды улыбнется».
Хуже всего то, что подобные «художественные» домыслы перемешиваются с повествованием, основанным на фактах, и никак от него не отделяются. При этом самые выигрышные моменты (рассказ Вазари о том, что Джорджоне заразился чумой от любимой женщины) Махов использовать почему-то не хочет. Все это портит книгу, которая могла бы быть очень удачной. Ведь тонкости живописного языка и стоящей за ним философии, отличия чинквеченто от кватроченто Махов понимает гораздо глубже, чем Шаво, а историю Венеции и венецианского искусства знает в тончайших деталях.
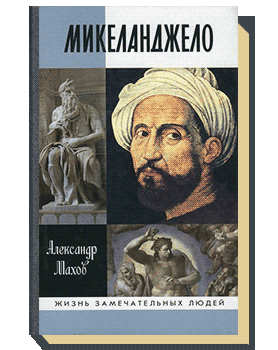 Александр Махов. Микеланджело. М.: Молодая гвардия, 2014
Александр Махов. Микеланджело. М.: Молодая гвардия, 2014
И добро бы Джорджоне! Тут хоть мотивация понятна. Но вот Микеланджело Боунаротти — о нем-то известно достаточно, чтобы не нужно было ничего додумывать. И тем не менее в своей книге об этом художнике Махов использует те же самые приемы. После замечательно дельных вводных страниц начинается «роман». Но кому нужен еще один роман про Микеланджело? Есть Ирвинг Стоун, который по крайней мере обладал талантом беллетриста.
А Махов строит диалоги довольно неуклюже, пытаясь «оживить» то, что гораздо живее сказал бы от своего лица. Но это полбеды. Постепенно все герои начинают говорить стихами. Якобы эти ямбические и рифмованные реплики заимствованы из неопубликованной поэмы Джованни Джанотти, младшего современника Микеланджело. Выглядит это так:
«— Да скульптор я, — чуть ли не с вызовом напомнил о себе мастер, — и вы забыли, видно, что я давно с палитрой не в ладу.
Папу всего перекосило от этих слов:
— Такое слышать от тебя обидно. Ты думай — чепуху не городи. Чего добром гнушаешься, милейший? Ведь прытких мастеров хоть пруд пруди. Им только свистни…
— Да не то, Святейший! Что ж, мне об стенку биться головой?
— Ты горло не дери! Ишь, разорался. Мы не в лесу, и я, чай, не глухой.
— Поймите вы, чтоб я за фреску взялся, мне надо бы силёнок подзанять…»
И так далее. Читать становится уже просто невозможно.
Чтобы закончить разговор об этой книге Махова — в некоторых случаях она как будто полемизирует с написанной Шаво биографией Леонардо. Французская писательница, оправдывая сотрудничество своего героя с Чезаре Борджиа, изображает того благородным рыцарем и борцом за свободу Италии — Махов, следуя давней традиции, рисует семью Борджиа одной черной краской. В противоположность Шаво, он стремится во что бы то ни стало подчеркнуть платонический характер отношений Микеланджело с адресатом его сонетов Томазо Кавальери, хотя фактически мы знаем о них не больше, чем про отношения Леонардо с Солаи. Здесь особенно заметны различия стран, культур… и конъюнктур.
С радостью переходим к двум книгам, про которые не можем сказать решительно ничего плохого. А хорошее — можем. Это «Веласкес» А. Якимовича и «Рембрандт» П. Декарга. Книги между тем очень разные.
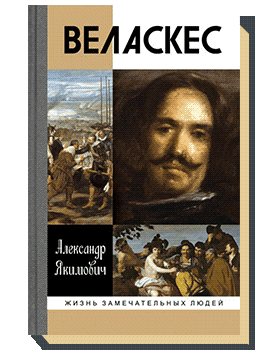 Александр Якимович. Веласкес. М.: Молодая гвардия, 2016
Александр Якимович. Веласкес. М.: Молодая гвардия, 2016
Якимовича поругивали за то, что это книга не о жизни гения, а исключительно о его творчестве. Но это сознательный выбор автора, продиктованный спецификой судьбы героя. Велакес — человек, с которым происходило на удивление мало событий. Можно пойти по пути реконструкций, домыслов, беллетризации — но мы только что видели, к чему он может привести. Якимович сознательно не фиксирует внимание на частном, бытовом (о женитьбе художника на дочери его учителя едва упомянуто). Его интересует блестящая и нищающая Испания, где идальго, бедные дворяне, «люди с именем» составляли большинство населения, его интересуют культура барокко, Гонгора и Кальдерон, театр и театр военных действий и — далеко не в последней степени — королевский двор.
«Нам сегодня несвойственно сочувствовать трудной жизни придворных, мы скорее склонны думать, что труд и страдание более всего свойственны „трудящимся классам” да еще пророкам и подвижникам религий, искусств и наук».

Якимович сочувствует не только придворным, но и королю — причем по специфической причине: «Попробуйте простоять пару часов без движения и не моргая. Кто на это способен?» По сложности ритуалов Испания Филиппа IV могла сравниться только с тогдашним Московским царством. Но какое отношение все это имеет к Веласкесу? Самое прямое. Художник всю жизнь был придворным. Не тяготился (судя по тому, что мы знаем) своей службой, не вкладывал в нее душу. Что же происходило в его душе? Почему при этом его живопись становится все более свободной? «Веласкес в свои коронные годы пишет как Бог. Он, подобно Творцу, творит нечто из ничего».
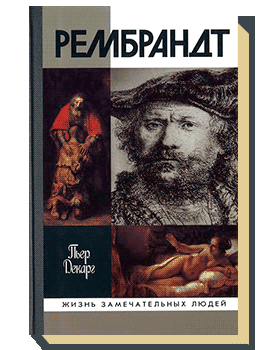 Пьер Декарг. Рембрандт. М: Молодая гвардия, 2010
Пьер Декарг. Рембрандт. М: Молодая гвардия, 2010
В случае книги Декарга (впервые она вышла еще в 2000 году; сейчас в продаже издание 2010 — оно до сих пор не разошлось, что очень досадно: биография в известном смысле образцовая) подобный метод не годится: какой же Рембрандт без Саскии, Хендрикье, Титуса? Но французский автор, во-первых, избегает вымыслов и домыслов, он пишет только то, что точно известно, во-вторых, рассматривает биографические эпизоды с точки зрения влияния на творчество художника, а не наоборот. Например, о смерти Титуса говорится в связи с «Возвращением блудного сына»:
«Отринув идею праздника, он идет к самой сути: соединению двух разлученных людей. Картина задает серьезный тон. Хотя она и выражает великое счастье, это счастье испытывают два человека на грани истощения, выражая его движением головы, нашедшей пристанище, рук, сжимающих плечи… Объятие этих двух людей было бы для него невозможным жестом. Каждая смерть что-то обрывает. Но можно догадаться, что между Титусом и Рембрандтом многое осталось недосказанным. Был ли отец тем наставником, каким должен был быть? Был ли сын счастлив в конце концов от возможности помогать тому, кого считал слишком великим, чтобы посметь брать с него пример?»
Жизнь Рембрандта проходит в окружении его собратьев, художников великого века голландского искусства, из которых мы помним лишь малую часть. У Декарга он не выглядит (как это часто происходит у других авторов) непонятым трагическим одиночкой среди бодрых малых голландцев. Нет, его творчество развивается в диалоге с современниками — более того, он окружен плеядой меньших, но не лишенных таланта мастеров, близких ему по духу и по стилю. Таков Ян Ливенс, соратник юности, у которого все прекрасно складывалось при жизни, а в истории искусства ему не повезло: он оказался в тени рембрандтовского гения. Таковы многочисленные ученики: «Он… был рад видеть в рождающихся вокруг него произведениях развитие идей, автором которых был он сам, различать в них искаженные отражения своих достоинств и недостатков: Говарта Флинка больше привлекала его неистовость, Фердинанда Бола — мягкая теплота, Саломона Конинка — его библейские инсценировки и сопутствующие аксессуары; Гербрандт ван ден Экхаут уделял особое внимание каждой фигуре в композиции и не мог сохранить единство произведения».
Огорчение вызывает предисловие к переводу, автор которого пеняет Декаргу во-первых, на нетривальную трактовку «Автопортрета с Саскией на коленях», во-вторых — неупоминание картин «Давид и Урия» и «Амман, Артаксеркс и Эсфирь», волею судьбы находящихся (как, впрочем, и многие другие) в российских музеях. В первом случае перед нами леность мысли, неготовой воспринять новые идеи, во втором — неуместные провинциальные обиды.
Теперь о биографиях мастеров более близкого времени.
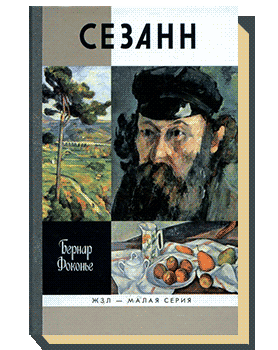 Бернар Фоконье. Сезанн. М.: Молодая гвардия, 2011
Бернар Фоконье. Сезанн. М.: Молодая гвардия, 2011
Книга Б. Фоконье о Сезанне создает прежде всего выразительный, бытовой, человеческий образ. Мальчик из буржуазной семьи, никогда не знавший нужды, но затравленный и подавленный деспотичным отцом, вынужденный жить на выделенное им скромное пособие, прячущий от него свою «неофициальную» семью; друг Золя, хвалившего всех современников-художников, а для Сезанна не нашедшего доброго слова, иронически изобразившего его в одной из своих книг; человек с довольно скучной и печальной личной жизнью (почти сорок лет в браке — сперва фактическом, потом и законном — с не слишком любимой женщиной; два-три страстных платонических увлечения… и все); да — вспыльчивый («Его гневливость — главный его грех и, возможно, единственный — не знала границ. Из-за нее перед ним будут захлопываться двери, из-за нее от него будут отворачиваться друзья, из-за нее он окажется в одиночестве. Но без приступов этого первобытного, страшного гнева, в котором он черпал свою решимость и свою силу, Сезанн не стал бы Сезанном»).
Как все это порождает одного из величайших мастеров мировой живописи? Откуда берутся такие картины? Вот он — этот вспыльчивый, закомплексованный и бесстрашный буржуа-самучка расписывает «большую гостиную подобно тому, как Рафаэль расписывал станцы в папском дворце в Ватикане»; вот он со странной издевкой подписывает панно «Четыре времени года» именем Энгра — главного столпа ненавистного академизма. Мы не добираемся до сущности этого человека, но хорошо видим его странность, угловатость.
Когда же Фоконье берется писать о живописи как таковой, получается малосодержательная риторика: «Гора Сент-Виктуар явилась идеальным для Сезанна образом: эта найденная им необычная, ни на что не похожая форма стала предтечей кубизма и абстракционизма; она, всей своей мощью устремленная ввысь, прославляет величие мироздания и его Творца».
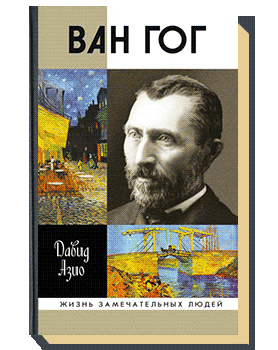 Давид Азио. Ван Гог. М.: Молодая гвардия, 2017
Давид Азио. Ван Гог. М.: Молодая гвардия, 2017
Книга Азио гораздо менее «персональна». И это понятно: о Ван-Гоге как человеке написано больше, чем о Рембрандте и Леонардо, его судьба стала сюжетом масскульта. Азио старается говорить не об этих сюжетах, а о серьезных вещах:
«Подобно тому как Фидий и Иктин (на самом деле, Калликрат и Иктин — пер.) искусно играли оптическими иллюзиями перспективы, применяя отклонения от строгой симметрии, чтобы создать сооружение, исполненное совершенной гармонии, импрессионисты использовали законы Шеврёля, раскрывающие особенности нашего зрения, для создания произведений большой колористической силы, которая порой трансформировалась в пиршество света».
Даже больше, чем сложность мыслей автора, привлекает старательность и въедливость переводчика В.Н. Зайцева, не упустившего случая исправить чужую ошибку.
Даже в коллизии Ван Гог/Гоген Азио интересует не отрезанное ухо, а кто из гениев творчески влиял на другого и как это впоследствии Гогеном интерпретировалось или искажалось.
И все-таки горечь личной судьбы Ван Гога сквозит в этой строгой книге. Взять хотя бы позднее свидетельство некоего арлезианца:
«У нас была банда молодых людей от шестнадцати до двадцати лет, и мы, юные придурки, забавлялись тем, что выкрикивали оскорбления вслед этому человеку, который обычно ходил тихо, молча и всегда один. На нем была широкая блуза, а на голове одна из тех дешевых соломенных шляп, что продавались на каждом углу. Но свою он украшал то синими, то желтыми лентами. Я помню — и стыжусь теперь этого, — как однажды запустил в него капустной кочерыжкой! Что вы хотите! Мы были подростки, а он был человеком странным: с трубкой в зубах, с безумным взглядом, немного сгорбившись, ходил по окрестностям города и писал там картины…»
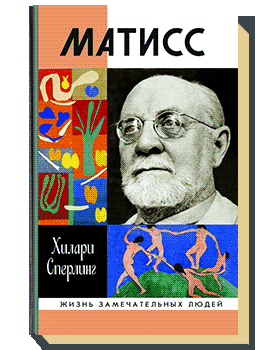 Хилари Сперлинг. Матисс. М.: Молодая гвардия, 2011
Хилари Сперлинг. Матисс. М.: Молодая гвардия, 2011
И в заключение — несколько слов о книге Хиллари Сперлинг. В аннотации сказано, что Матисс предстает в ней «практичным и консервативным в жизни, романтическим и бунтарским в творчестве». Но, пожалуй, никакого романтизма и бунтарства в том Матиссе, которого описала Сперлинг, нет. Перед нами выходец из респектабельной буржуазной среды XIX века (как и Сезанн). Это среда, в которой при беременности подруги принято было разрывать отношения, а не жениться. Молодой Матисс тоже с подругой в конечном итоге расстался, но дочь оставил себе, и его законная супруга впоследствии ее удочерила. Он выбирает рискованную профессию, в которой материальный успех приходит лишь к обладателям выдающихся способностей, — что ж, у него они есть. Он дерзкий новатор — в эпоху, когда новаторство поощряется. В конечном итоге вождь «диких», который «рисует как негр и рассуждает как маг», кажется не менее основательным и респектабельным, чем, например, Энгр:
«Его чувство композиции было подобно музыкальному слуху. Свои умозаключения Матисс формулировал в ясных и убедительных метафорах. Создание картины он, например, уподоблял труду кулинара, или плотника, или строителя: «Вы видите цвета черепицы, карниза, стен и ставней, которые все вместе составляют единое целое; такой же должна быть и картина».
Эта основательность мастера рифмуется с основательностью и тщательностью его биографа, который, возможно, лепит героя по своему образу и подобию, смягчая внутренние конфликты, ставя во главу угла постепенное течение долгой и плодотворной жизни. А ведь перед нами — сокращенная версия двухтомного труда!
Нет, есть и забавные эпизоды. Например, как Щукин, испугавшись собственной дерзости, в какой-то момент не хочет украшать лестницу «Танцем»: дескать, российская публика испугается обнаженной натуры, «мы здесь немного на Востоке» (это Россия-то 1910 года, раскованная и отвязнная донельзя!). В целом же — это полезное, хотя и скучноватое чтение о жизни художника (но не о проблемах его творчества).
Ни одну из помянутых нами книг нельзя назвать совершенно бесполезной, неудачной, некомпетентной. А если формальные решения, найденные их авторами, иногда не радуют — все же это попытки решения реальных проблем, встающих перед писателями биографического жанра. А писать о людях, мыслящих красками и линиями, вероятно, иногда труднее, чем о людях пишущих или действующих.