15 книг о Японии, которые стоит прочесть каждому
Художественные произведения и исследования, которые помогут понять и полюбить Страну восходящего солнца
Сайт «Горький» попросил меня написать о пяти книгах, которые помогут понять Японию. Я запротестовал: в пяти книгах такого не расскажешь. Сошлись на пятнадцати. Разумеется, этого тоже мало, но всего рассказать вообще нельзя. В гуманитарном знании нет окончательного результата — есть только промежуточные. В любом случае, мой выбор грешит вкусовщиной, от которой мне уже не избавиться. Впрочем, я не ставлю перед собой недостижимых целей.
Японцы о себе
Кокинсю. Перевод А. Долина (есть несколько изданий)

Японские стихи настолько лапидарны, что с трудом поддаются переводу, и многие переводчики склонны добавлять в перевод несуществующие в оригинале слова — чтобы хоть как-то приспособить эти стихи к русскому вкусу. В самой Японии сочинение стихов (часто — экспромтом) было распространено очень широко. Стихи казались настолько важным элементом культуры, что в средневековье императоры регулярно отдавали распоряжения о составлении антологий. И тогда учреждалась редколлегия, которая и осуществляла выбор. Первая такая антология — «Кокинсю» — «Собрание старых и новых песен» (начало Х века). Она стала моделью для всех последующих собраний. В каждом из них непременно присутствуют природный и любовный разделы. В природном описывается полный годовой цикл — весна, лето, осень, зима. В этих стихах никогда не рассказывается о природных аномалиях — наводнениях, засухах, тайфунах. Считалось, что стихи являются родом заклинания и должны отражать идеальное состояние природы. Такие стихи, в которых встречались аномалии, в антологию не попадали, поскольку имели «диссидентский» душок. Император считался гарантом «правильной» (то есть благоприятной для человека) погоды, и, если случались природные бедствия, ответственность лежала на нем. Так что поэтическая весть о землетрясении воспринималась как критика власти.
Любовный раздел антологий был также устроен «хронологически»: в его начале помещались стихи о предчувствии любви, в конце — о ее печальном крахе. Аристократы были людьми чувственными и полигамными, и им не приходило в голову воспевать любовь вечную. Вместо этого они горевали о быстротечности времени. Государственный оптимизм и личная печаль сосуществовали совсем рядом.
Торикаэбая моногатари. Путаница. СПб: Гиперион, 2003. Перевод М. Торопыгиной
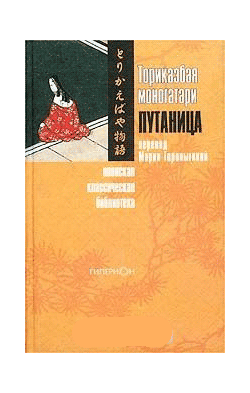
Аристократы Хэйана были людьми утонченными и изобретательными. Они были людьми обеспеченными, и материальная сторона жизни не слишком заботила их. Они много развлекались: пировали, музицировали, рисовали. Сочиняли стихи и прозу. Наряду с прославленной «Повестью о Гэндзи», прекрасный образчик их изощренного прозаического творчества — роман «Путаница», сочиненный в XII веке. Завязка — появление на свет похожих как две капли воды брата и сестры. При этом оказывается, что по мере взросления мальчик начинает воспринимать себя девочкой, а девочка — мальчиком. Неизвестный нам автор ставит героев в двусмысленные ситуации и описывает, как они ощущали себя в обществе со строго определенными гендерными функциями. Это роман о понимании и нежелании понять, о сострадании и жестокости, о глубокой и преданной любви. Утонченность и поэзия, трагедия и фарс. И все это восемь веков назад...
Ёсида Канэёси. Записки на досуге. Перевод А. Мещерякова (есть несколько изданий)
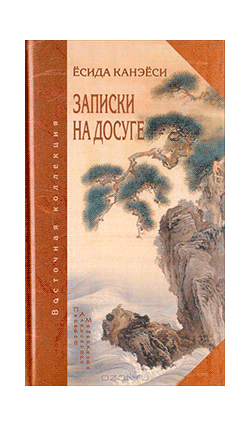
Моя любимая книга из японской классической литературы — «Записки на досуге» Ёсиды Канэёси (1283–1350). Нетривиальность его личности явлена нам в предании об истории создания «Записок». Когда после кончины Канэёси обследовали его хижину, обнаружили, что стены завешаны листочками, на которых он записывал то, что приходило ему в голову. Листочки соединили в произвольном порядке — получилась книга. Трудно сказать, было ли так на самом деле, но вряд ли случайно, что такую легенду сложили именно о Канэёси, а не о ком-то другом. Ведь жанр «Записок» — «дзуйхицу» («вслед за кистью») — пользовался в Японии огромной популярностью, и Канэёси вовсе не был его родоначальником. Этот жанр предполагает, что «кисть» ведет автора за собой, он не знает «мук творчества» и бесконечных черновиков, пишет сразу набело. Подобные произведения лишены фабулы, и в этом есть своя проницательность и свой реализм — ведь у жизни нет сюжета. Нет и катарсиса. Принцип «автоматического письма» был открыт на Западе лишь в ХХ в., а для Японии он был освящен многовековой традицией.
Мир Канэёси — не «самурайский», а очень сочувственный по отношению к человеку и его слабостям. Он был человеком чудаковатым — таких теперь почти нет. Вот он гневно осуждает пьянство и тут же говорит, что не стоит отказывать себе в радости выпить с задушевным другом. Вот он рассуждает об обременительности семьи и тут же замечает, что только человек, давший потомство, способен ценить красоту мира. Канэёси был мудрым человеком и говорил, что, имея две стрелы, следует думать, что у тебя только одна. То есть ты не имеешь права на ошибку. Словом, Канэёси призывал относиться ко всякому делу с полной ответственностью.
«Когда человек достиг к старости умения великого, люди говорят про него: „Когда он умрет, у кого спросим?”. А это значит, что не зря он состарился, что жил он всерьез. Однако умение его безукоризненное свидетельствует и о том, что прожил он жизнь свою, занимаясь делом только одним, а это уже нехорошо». Канэёси видел, что профессионализация обедняет человека. Сам он написал только одну книгу прозы, но этого оказалось достаточно, чтобы остаться в истории. Он выступал за гармонично развитую личность, за человека эпохи Возрождения, за то, о чем мечтали утопические социалисты. «Землю попашет, попишет стихи» (Маяковский). Сам же Канэёси — человек разносторонний, а поэтому с ним интересно. Он побывал и придворным, и монахом, был жаден до людей, много в них понимал. Он — собеседник. Он не переделывал мир, он был наблюдателем. Он воплощал в себе идеал китайских мудрецов — всё видеть и оставаться невидимым. Сейчас это удел шпионов.
Ясухиро Накасонэ. Государственная стратегия Японии в XXI веке. М.: Nota Bene, 2001. Перевод В. Н. Чигирева и С. В. Бунина.
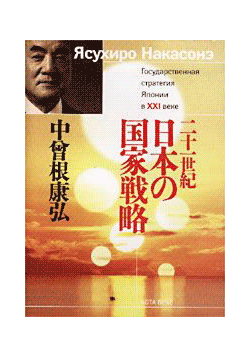 Накасонэ работал премьер-министром в 1982–1987 гг. Не брезговал взятками. 24 сентября 1986 года сделал громкое заявление: Америка — страна многонациональная; и среди негров, мексиканцев, пуэрториканцев просвещение встречается с трудностями, одна из которых — малообразованные люди, а вот Япония — мононациональна, а потому и образовательный уровень у нас хорош. Многих политкорректных японцев такое заявление покоробило, и начиная с четвертого издания (1991 г.) авторитетнейшего толкового словаря «Кодзиэн» понятие «мононациональный народ» квалифицируется как используемое в ксенофобских и политических (т. е. дурных) целях.
Накасонэ работал премьер-министром в 1982–1987 гг. Не брезговал взятками. 24 сентября 1986 года сделал громкое заявление: Америка — страна многонациональная; и среди негров, мексиканцев, пуэрториканцев просвещение встречается с трудностями, одна из которых — малообразованные люди, а вот Япония — мононациональна, а потому и образовательный уровень у нас хорош. Многих политкорректных японцев такое заявление покоробило, и начиная с четвертого издания (1991 г.) авторитетнейшего толкового словаря «Кодзиэн» понятие «мононациональный народ» квалифицируется как используемое в ксенофобских и политических (т. е. дурных) целях.
Я не слишком сведущ в будущем, поэтому приведу из футуристической книги Накасонэ лишь одну цитату, касающуюся прошлого. Схематично обрисовав исторический путь Японии (где каждая фраза вызывает по меньшей мере удивление), Накасонэ пишет: «Основанный на упомянутых выше принципах „ваби”, „саби” и „моно-но аварэ” умственный и эмоциональный настрой японцев формировался под влиянием самобытных климатических условий: Япония расположена в муссонном поясе Азии, в стране четко просматривается смена времен года. Своеобразный интеллектуальный настрой и эмоциональность нашли отражение в японской культуре — в частности, в пьесах театра Кабуки, в традиционных монологах в жанре „идайю”, а также в чайной церемонии, искусстве аранжировки цветов. Встает вопрос: в какой степени иностранцы понимают эмоциональный настрой японцев, черты которого нам удалось сохранить в жилище, в повседневной жизни, имеются ли у них подобные нам чувства и порывы души? Я бы ответил на него негативно».
Накасонэ — один из трубадуров дискурса «нихондзинрон» («рассуждения о японцах»). Его расцвет приходится на 70-80-е годы ХХ века. Суть «рассуждений» состоит именно в том, о чем написал Накасонэ: японцы — не такие как все, и понять их никому не дано. Такой ход мысли был обусловлен многими историческими и культурными обстоятельствами, которые требуют тщательного анализа. Я пытаюсь разобраться в этой проблеме в уже законченной рукописи «Остаться японцем: Янагита Кунио и его команда. Этнология как форма существования японского народа». Она должна выйти в 2020 году.
Кага Отохико. Столица в огне (готовится к выпуску издательством «Гиперион»)
Это роман-эпопея живого классика японской литературы. Действие разворачивается в 30-40-е годы ХХ века. Для романа-эпопеи в японском языке существует точное слово — «роман-река». Роман Каги и вправду похож на огромную равнинную реку, которая тысячи километров неспешно влечет свои воды к устью. Проплывая по такой реке, видишь разные пейзажи и города, ощущаешь огромность мира и свою малость. Одновременно хочешь узнать, чем дышат люди, живущие на берегах.
«Столица в огне» — чтение медленное. Читая роман, я вспоминал, как по школьной программе мы читали «Войну и мир». Мальчишки — они и есть мальчишки, они читали про войну, а про мир — пропускали. Девочки поступали ровно наоборот — их интересовало про мир и про любовь, а вот война оставляла равнодушными. В то далекое, почти мифическое время, Инь и Ян жили поодиночке.
Став постарше, я перестал читать книги про войну: героизм, массовые убийства и страдания не интересовали меня. Окончательно став взрослым, я стал читать и про мир, и про войну, то есть стал воспринимать жизнь во всей ее драматической полноте. Хорошие книги всегда про одно и то же — про жизнь и про смерть. Но хороших писателей мало (как мало мастеров и в любой другой профессии), а читательского и житейского опыта накопилось столько, что теперь я редко в состоянии осилить книгу от начала до конца: слишком часто в самом начале уже понятно, куда клонит автор и что будет в конце.
«Столицу в огне» я прочел полностью. Допускаю, что я был первым русским читателем, кто сделал это. Читая, ощущал радость первооткрывателя. Читая, ни разу не захотел бросить на полпути. Прочтя, пожалел, что книга закончилась. Это было такое обволакивающее душу наслаждение — плен, из которого не хочется вырваться.
Подбирая определения роману Каги Отохико, легко попасть впросак. Это ностальгический гимн детству — светлый роман о мальчике Юте, его играх, шалостях, первой любви. Это роман исторический, потому что в нем с дотошностью профессионального историка запечатлены узловые точки японской истории. Это роман антивоенный. В нем нет описаний сражений, но трагедия сгоревшего дотла Токио описана так, что вызывает леденящий ужас. Это роман любовный, потому что действиями персонажей управляет любовная страсть. Страсть тайная, запретная и греховная, она томится в сердце, как в барокамере. Прорываясь, она приносит героям немыслимое счастье и немыслимое горе. Это роман семейный, его основные герои являются родственниками. Такой роман уже нельзя написать на современном материале — прежней многодетной и многоветвистой семьи больше не существует. Нет и того Токио, где герои романа живут, надеются, любят, умирают. Этот город был дважды безжалостно сожжен в ХХ веке. В первый раз — огнем, вызванным ужасным землетрясением 1923 года; второй раз — пожарами, возникшими от американских бомбардировок в 1945 году. Кага Отохико рассказывает нам про обитателей этого города и про сам город так, что щемит сердце. Этих людей и этого города больше нет, но мы видим их — так честно и талантливо делает работу реаниматора автор.
Объем текста таков, что писатель рискует наскучить читателю. Однако Каге Отохико удается достичь совсем другого эффекта: чем дальше, тем интереснее, что случится с героями. Он блестяще владеет искусством смены повествовательного ритма, его герои способны на неожиданные поступки. Каждый из них смотрит на жизнь своим взглядом, и оттого одна и та же история, рассказанная разными персонажами, приобретает такой затейливый объем, который не под силу увидеть одному человеку. Это оказывается под силу только автору. Этого человека можно назвать творцом, а можно и рассказчиком — сказителем эпоса, который вбирает в себя слова и опыт многих и многих людей, которые уже не могут рассказать про себя.
Нынешнее общество стало частенько позиционировать книгу как «развлечение», entertainment. Недаром книги теперь все чаще продают в магазинах, где есть не только книги, но и фильмы, и музыка. Но с точки зрения потребительской «выгоды» книга намного выгоднее. Фильм ты смотришь полтора-два часа, а книгу читаешь намного дольше. За одну и ту же цену ты получаешь от книги более растянутое удовольствие. Но «Столица в огне» — это не развлечение. Развлечение заставляет забыть о жизни, а Кага Отохико заставляет вспомнить о ней.
Русские путешественники о Японии
В. М. Головнин. Записки о приключениях в плену у японцев (есть несколько изданий)
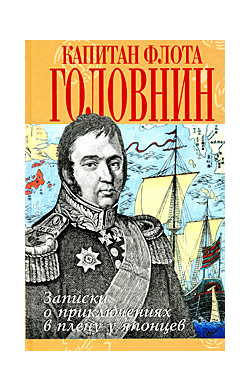
Нам повезло, что первые плотные контакты с японцами осуществляли моряки. Повезло в том смысле, что они умели не только добраться до Японии, но и были, как правило, людьми образованными и наблюдательными. Капитан Василий Михайлович Головнин (1776–1831) — яркое тому свидетельство. В заголовок своей книги он недаром вставил слово «приключения». Приплыв к берегам Японии в 1811 году, он попал в плен, совершил побег, поплутал по Хоккайдо, был схвачен, и только потом его отпустили на родину. Япония была тогда закрытой страной, сведений о ней имелось немного, так что «Записки» перевели на многие европейские языки. Слог самого Головнина — пленителен и делает честь языку русскому.
Ценность сочинения Головнина в том, что он имел возможность наблюдать жизнь японцев почти что «изнутри», и круг его общения не ограничивался высокопоставленными лицами. Несмотря на заточение, он успел многое «подсмотреть» и даже проникнуться к японцам симпатией. Но не той симпатией к «неиспорченному» цивилизацией «дикарю», о котором тогда много толковали в Европе. Головнин сумел увидеть в японцах народ, который обладал блестящим (на тогдашний европейский колонизаторский взгляд) будущим. Конечный результат его наблюдений вполне ошеломителен. И в России, и на Западе считали Японию страной «азиатской» и «отсталой». Однако Головнин сделал совершенно другой, провидческий вывод: «Если над сим многочисленным, умным, тонким, переимчивым, терпеливым, трудолюбивым и ко всему способным народом будет царствовать государь, подобный великому нашему Петру, то с пособиями и сокровищами, которые Япония имеет в недрах своих, он приведет ее в состояние, через малое число лет, владычествовать над всем Восточным океаном».
И. Гончаров. Фрегат «Паллада» (существует много изданий)
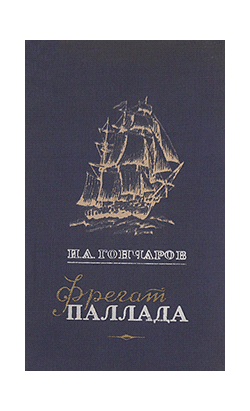 Язык Ивана Гончарова тоже хорош. Гончаров погостил в Японии в 1853 году, когда туда прибыла для заключения торгового договора миссия Е. В. Путятина. Гончаров состоял при нем секретарем и не упустил случая описать свои впечатления. Он не имел возможности вникнуть в жизнь простых японцев и рассматривал Японию с борта корабля. Спускаясь на берег, общался с чиновниками. Взгляд Гончарова — это взгляд образованного на европейский лад русского барина, его заметки полны высокомерия и сарказма. Он рассказывает о Японии с презрительно оттопыренной губой. Их одежда неудобна, еда отвратительна. «Поставили перед нами по ящику... Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец, мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь». Обозревая с корабля красивейшую бухту Нагасаки, Гончаров восклицал: «Но с странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения... Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? Зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? Отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, словом кипения жизни или „мышьей беготни”, по выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешанная синими, белыми, красными тканями?.. Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? Зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это все заселится, оживится?»
Язык Ивана Гончарова тоже хорош. Гончаров погостил в Японии в 1853 году, когда туда прибыла для заключения торгового договора миссия Е. В. Путятина. Гончаров состоял при нем секретарем и не упустил случая описать свои впечатления. Он не имел возможности вникнуть в жизнь простых японцев и рассматривал Японию с борта корабля. Спускаясь на берег, общался с чиновниками. Взгляд Гончарова — это взгляд образованного на европейский лад русского барина, его заметки полны высокомерия и сарказма. Он рассказывает о Японии с презрительно оттопыренной губой. Их одежда неудобна, еда отвратительна. «Поставили перед нами по ящику... Открываем — конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец, мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь». Обозревая с корабля красивейшую бухту Нагасаки, Гончаров восклицал: «Но с странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения... Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? Зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? Отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, словом кипения жизни или „мышьей беготни”, по выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешанная синими, белыми, красными тканями?.. Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? Зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это все заселится, оживится?»
Европейцы твердили о «сонной» Японии, отсутствие в японцах «динамизма» вызывало неприкрытое раздражение. Гончаров не отставал. Лучшие из европейцев хотели принести японцам свет «настоящей» цивилизации, худшие думали о том, как бы половчее поработить ее.
В. Крестовский. В дальних водах и странах. М.: Центрполиграф, 2002
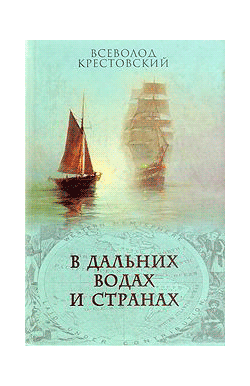 Писатель Всеволод Крестовский состоял секретарем при адмирале С. С. Лесовском (начальник морских сил на Тихом океане) и приплыл в Японию в 1880 году. Сейчас наибольшей известностью пользуется роман Крестовского «Петербургские трущобы». Он обладает сюжетом, но автор дотошно изобразил бытовые подробности разных страт петербургского общества. Роман упрекали за «стенографизм», но этот подход оказался весьма полезен применительно к Японии: в его описании этой страны мы видим ту же самую «этнографическую» тщательность. Никаких «идей» он не демонстрирует — просто записывает то, что видел. И это несомненное достоинство, поскольку его заметки точны, скрупулезны и не подверстаны под «тенденцию». Автор наблюдал и восхитительную японскую природу, и оживленную японскую улицу, и даже недосягаемого императора. Так что это очень полезная книга для ценителей «фактуры».
Писатель Всеволод Крестовский состоял секретарем при адмирале С. С. Лесовском (начальник морских сил на Тихом океане) и приплыл в Японию в 1880 году. Сейчас наибольшей известностью пользуется роман Крестовского «Петербургские трущобы». Он обладает сюжетом, но автор дотошно изобразил бытовые подробности разных страт петербургского общества. Роман упрекали за «стенографизм», но этот подход оказался весьма полезен применительно к Японии: в его описании этой страны мы видим ту же самую «этнографическую» тщательность. Никаких «идей» он не демонстрирует — просто записывает то, что видел. И это несомненное достоинство, поскольку его заметки точны, скрупулезны и не подверстаны под «тенденцию». Автор наблюдал и восхитительную японскую природу, и оживленную японскую улицу, и даже недосягаемого императора. Так что это очень полезная книга для ценителей «фактуры».
Тон Крестовского добродушен и спокоен, он срывается только при виде обитающих в Японии иностранцев, которых он аттестует самым нелестным образом: «И вы видите, как в беспокойно бегающем, озабоченном их взоре скользит ищущая похоть, как бы только сорвать с кого куш, что-нибудь и где-нибудь хапнуть, жамкнуть хорошенько всеми зубами, купить, перебить, продать, передать, поднадуть... Это все народ-авантюрист, прожектер, антрепенер чего угодно и когда угодно, прожженная и продувная бестия — народ большей частью прогоревший, а то и проворовавшийся или окончательно компроментированный чем-либо у себя дома, на родине, и потому бежавший на Дальний Восток, где можно еще с высоты своего европейского превосходства не только презирать и эксплуатировать этих „смешных и глупых варваров” китайцев и японцев, но еще и „цивилизовать” их, за хорошее, конечно, жалованье, в некотором роде „миссию” свою европейскую исполнять, безнаказанно держать себя с нахальнейшим апломбом, да к тому же нередко еще и роль играть в местном европейском клоповнике».
Б. Пильняк. Корни японского солнца. М.: Три квадрата, 2004
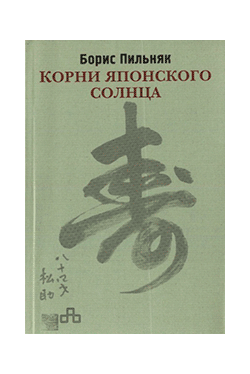 Советская власть начинала с лозунга «Коммунизм сметет все границы», но потом быстро одумалась и эти границы закрыла. Выпускала за их пределы людей проверенных и скучных, которые, как правило, не умели и не хотели приметить что-нибудь интересное. Это и неудивительно: советские коммунисты были приверженцами классового подхода, для них первичным было не существование «японца», а противоборство «буржуазии» и «пролетариев», то есть японцев «хороших» и японцев «плохих». Понятие национальной культуры их не интересовало, теория социально-экономических формаций, которой они придерживались, делала упор на всеобщих закономерностях исторического процесса, в котором региональное своеобразие не играет существенной роли. Они были уверены, что все общества «обречены» пройти один и тот же путь — от первобытно-общинного строя до коммунизма.
Советская власть начинала с лозунга «Коммунизм сметет все границы», но потом быстро одумалась и эти границы закрыла. Выпускала за их пределы людей проверенных и скучных, которые, как правило, не умели и не хотели приметить что-нибудь интересное. Это и неудивительно: советские коммунисты были приверженцами классового подхода, для них первичным было не существование «японца», а противоборство «буржуазии» и «пролетариев», то есть японцев «хороших» и японцев «плохих». Понятие национальной культуры их не интересовало, теория социально-экономических формаций, которой они придерживались, делала упор на всеобщих закономерностях исторического процесса, в котором региональное своеобразие не играет существенной роли. Они были уверены, что все общества «обречены» пройти один и тот же путь — от первобытно-общинного строя до коммунизма.
Из общего ряда явно выломался Борис Пильняк — чуть ли не последний из довоенных советских авторов, которому были интересны японцы как представители «другой» культуры. Он побывал в Японии в 1926 году. Особенный и несколько вызывающий интерес вызвали у него японки. Они представляли собой разительный контраст по отношению к идеальному типажу советской женщины, которому приписывалось все больше мужских черт. В «Корнях японского солнца» Пильняк пропел настоящую оду проституткам, гейшам, японской женщине вообще. Публичные дома Токио и их обитательницы — манерами, воспитанностью и внешностью — привели писателя в полный восторг. Что до идеального типажа японской красавицы, то он представлялся ему так: «Тогда, в тот рассвет, я смотрел на эту женщину, одетую в кимоно, перепоясанную оби [широкий пояс — А. М.], с рудиментами бабочки на спине, обутую в деревянные скамеечки, — и тогда мне стало ясно, что тысячелетия мира мужской культуры совершенно перевоспитали женщину, не только психологически и в быту, но даже антропологически: даже антропологически тип японской женщины весь в мягкости, покорности, красивости — в медленных движениях и застенчивости, — этот тип женщины, похожей на мотылек красками, на кролика — движениями».
Книга Пильняка была воспринята в СССР крайне неоднозначно. В напечатанной в газете «Правда» разгромной рецензии Олег Плетнер пришел к выводу, что книга играет «на руку японскому империализму». Смысл претензий можно свести к следующему: автор воспринял Японию как страну женщин, а следовало воспринимать ее как страну мужчин — страну капиталистов, военных и пролетариев. Проделав «работу над ошибками» во второй своей «японской» книге «Камни и корни» (1934), Пильняк уже не пишет об очаровательных японках, но делает упор на их бесправном положении. «В текстиле [текстильной промышленности — А. М.], как и в публичных домах, работают женщины, купленные туда за бесценок по феодальному праву, когда женщина не принадлежит себе и принадлежит старшему в роде мужчине».
Покаянная книга не спасла Пильняка. Его расстреляли как «японского шпиона».
Константин Симонов. Япония-46. М.: Советская Россия, 1977
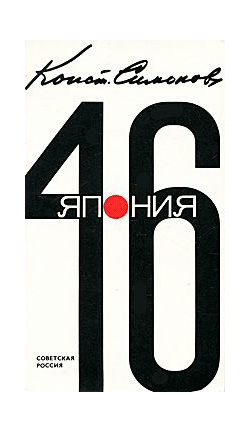 Симонов побывал в Японии в 1946 году. Он пробыл там около пяти месяцев, но книгу написал тридцать лет спустя. Может быть, это и хорошо, потому что в 1977 году он имел возможность высказываться куда свободнее, чем сразу после войны. Когда Симонов вернулся домой, Черчилль уже произнес свою знаменитую речь в Фултоне, которую принято считать формальным началом холодной войны. Она привела к тому, что высказываться сколько-то объективно о «капиталистических» странах (даже если это были союзники по борьбе с фашизмом) стало невозможно. В 1947 году появилась бранчливая книга журналиста О. Курганова «Американцы в Японии» (впоследствии она неоднократно переиздавалась). Что он увидел в Японии? «Совесть журналиста заставляет меня вспомнить о миллионах людей, павших в борьбе с фашизмом. Теперь американцы в Японии шагают по мертвым телам героев и протягивают руку их убийцам и тем, кто стоял за их спиной».
Симонов побывал в Японии в 1946 году. Он пробыл там около пяти месяцев, но книгу написал тридцать лет спустя. Может быть, это и хорошо, потому что в 1977 году он имел возможность высказываться куда свободнее, чем сразу после войны. Когда Симонов вернулся домой, Черчилль уже произнес свою знаменитую речь в Фултоне, которую принято считать формальным началом холодной войны. Она привела к тому, что высказываться сколько-то объективно о «капиталистических» странах (даже если это были союзники по борьбе с фашизмом) стало невозможно. В 1947 году появилась бранчливая книга журналиста О. Курганова «Американцы в Японии» (впоследствии она неоднократно переиздавалась). Что он увидел в Японии? «Совесть журналиста заставляет меня вспомнить о миллионах людей, павших в борьбе с фашизмом. Теперь американцы в Японии шагают по мертвым телам героев и протягивают руку их убийцам и тем, кто стоял за их спиной».
Симонов любил Японию и не мог позволить себе таких огульных высказываний. Задержав публикацию своих японских впечатлений, он поступил мудро. В результате получилась книга, в которой честно рассказывается, что удалось увидеть его зоркому глазу. Книга полна таких деталей послевоенной разрухи и неразберихи, которые доступны только очевидцу. Мне кажется, что из тех советских людей, кто побывал в Японии сразу после войны, автор «Японии-46» лучше всех передал тогдашнюю атмосферу. Книга свободна от генерализаций, свойственных советскому стилю публицистического письма, и потому сохраняет свою ценность как источник, помогающий разобраться, что происходило в послевоенной Японии.
Исследования
Н. Н. Трубникова, А. С. Бачурин. История религий Японии IX–XII вв. М.: Наталис, 2009
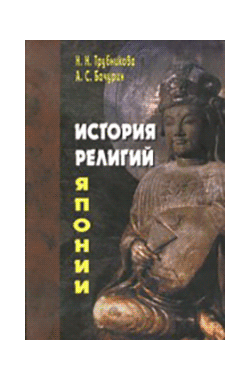 Превосходная книга для серьезного ознакомления не только с японскими религиями (синто, буддизм, даосизм), но и с раннесредневековой культурой вообще. Детально прослеживается, какую религиозную политику проводило государство, как самые разные верования то переплетались друг с другом, то, в результате яростной полемики, обретали самостоятельность.
Превосходная книга для серьезного ознакомления не только с японскими религиями (синто, буддизм, даосизм), но и с раннесредневековой культурой вообще. Детально прослеживается, какую религиозную политику проводило государство, как самые разные верования то переплетались друг с другом, то, в результате яростной полемики, обретали самостоятельность.
Книга позиционируется как учебник. Читая его, и вправду можно многому научиться, многое понять. Важнейшее достоинство этого труда: религия рассматривается не сама по себе, а в связи с общеисторической ситуацией. По большому счету, это настоящее исследование, но написанное так, что японские реалии становятся понятны не только специалисту, но и просто интеллигентному человеку. Продуманный справочный аппарат. Доказательность, основанная на текстах. Словом, из всех известных мне учебников по ранним японским религиям этот — самый лучший.
Л. Б. Карелова. У истоков японской трудовой этики. М.: Восточная литература, 2007
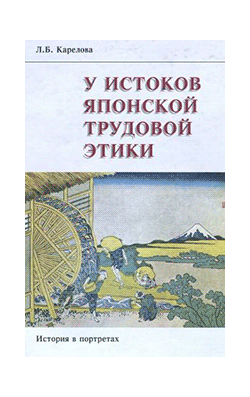 Каждому известно, что японцы — народ трудолюбивый и даже трудоголичный. Однако так было не всегда. Буддизм, который определял картину мира до XVII века, настаивал на вере, созерцательности и личном спасении, но затем все большее значение приобретало неоконфуцианство с его прагматическими подходами к жизни.
Каждому известно, что японцы — народ трудолюбивый и даже трудоголичный. Однако так было не всегда. Буддизм, который определял картину мира до XVII века, настаивал на вере, созерцательности и личном спасении, но затем все большее значение приобретало неоконфуцианство с его прагматическими подходами к жизни.
Слово «трудолюбие» начинает появляться в источниках в XVII–XVIII вв. и позиционируется в качестве общепризнанной добродетели. Монография Л. Б. Кареловой наглядно (то есть с опорой на тексты) демонстрирует, как это происходило.
В многочисленных сельскохозяйственных трактатах подчеркивалось, что следует вставать пораньше и таким образом увеличивать время, отдаваемое труду. Это был ручной труд. Поскольку земли было слишком мало, а людей слишком много, крестьяне предпочитали не держать скот, а обрабатывать землю вручную. Зато обрабатывали они ее очень тщательно. В награду — богатые урожаи. В начале XVIII века население страны составляло чуть более 30 миллионов человек, то есть значительно больше, чем в Англии, Франции или России. Нищие не считались «божьими людьми», даже буддийские монахи были обязаны трудиться.
Призывая отказаться от своего «я», ортодоксальный буддизм объявлял тело (как и весь «посюсторонний» мир) «иллюзией», однако теперь положение меняется. Крестьянский труд как таковой признается эквивалентом служения Будде. Дзэнский монах Судзуки Сёсан (1579–1655) писал: «Перепахивая землю и собирая урожай, всем сердцем следует отдаваться возделыванию полей. Как только вы даете себе отдых, страсти и желания нарастают, когда вы трудитесь в поте лица, ваше сердце спокойно. Таким образом, вы занимаетесь буддийской практикой круглый год. Зачем крестьянину стремиться к какой-либо иной буддийской практике?»
Крестьянский сын Ниномия Сонтоку (1787–1856) также обращал внимание на первостепенную важность труда и физической активности в деле самосовершенствования: «...Путь Неба и Путь человека совершенно различны, поэтому Небесный принцип вечен и неизменен, а Путь человека приходит в упадок сразу, если хотя бы один день ничего не делать. Поэтому в Пути человека ценится труд и не пользуется уважением бездействие и предоставление вещам идти своим чередом. То, к чему следует стремиться, вступая на Путь человека, есть учение о преодолении себя. Вещь, называемая „я”, означает личные страсти. Если искать сходство, то личные страсти будут соответствовать сорной траве на полях. Преодоление и есть прополка выросшей на полях сорной травы. То, что называется преодолением самого себя, есть работа, состоящая в вырывании и выбрасывании выросшей на полях сорной травы и взращивании риса и зерновых в собственном сердце. Это называется Путем человека».
При таком подходе культурная значимость работающего тела, безусловно, возрастала. Метафоры, связанные с трудовым процессом, становятся общеупотребительными. Так, процесс самосовершенствования человека уподобляется тому, как, благодаря уходу за полем и внесению в почву удобрений, это поле повышает свою продуктивность. Кайбара Экикэн (1630–1714), выходец из самурайской семьи и известнейший популяризатор конфуцианского учения, говорит о том, что постоянная забота о своем теле непременно принесет свои плоды — точно так же, как и труд земледельца, который весной сеет семена, летом тщательно ухаживает за растениями, а осенью получает богатый урожай. Говорит он и о том, что даже прародительница императорского рода богиня Аматэрасу не чуралась труда и сама ткала одежду.
Высокая значимость труда подпитывалась и медицинскими соображениями. Распространяется убеждение, что малоподвижность жизни ведет к застою жизненной энергии, а потому физическая активность и труд благоприятны для тела и продления жизни. Безделье и леность сурово осуждались. Иными словами, автор убедительно показывает, что основы материального благополучия нынешней Японии были заложены еще в Средние века. Основа этого благополучия — трудовая этика, схожая с убеждением протестантов, что труд — дело богоугодное.
О. И. Лебедева. Искусство Японии на рубеже XIX–XX веков. Взгляды и концепции Окакура Какудзо. М.: Институт восточных культур и античности РГГУ (серия Orientalia et Classica, выпуск LVIII), 2016
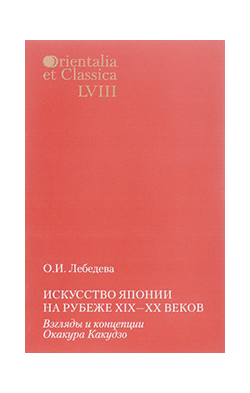 Это очень важная книга для понимания того, как формировалась концепция японского искусства. До второй половины XIX века самого понятия «искусство» там не существовало. Автор показывает, как под влиянием западных идей оно вырабатывалось — методом проб и ошибок. До второй половины XIX века не существовало и канонического набора произведений искусства, призванных быть «визитной карточкой» Японии в мире. О. И. Лебедева демонстрирует процесс создания этого канона. Особое внимание уделяется фигуре Какудзо (1862–1913), положившего много сил на создание концепции «национального искусства». Именно он выработал теорию, в которой представил Японию как «музей азиатского искусства». Он имел в виду, что в Японии сохраняется все самое прекрасное, что было создано в Азии. Особую ценность придает книге перевод главного сочинения Какудзо «Идеалы Востока».
Это очень важная книга для понимания того, как формировалась концепция японского искусства. До второй половины XIX века самого понятия «искусство» там не существовало. Автор показывает, как под влиянием западных идей оно вырабатывалось — методом проб и ошибок. До второй половины XIX века не существовало и канонического набора произведений искусства, призванных быть «визитной карточкой» Японии в мире. О. И. Лебедева демонстрирует процесс создания этого канона. Особое внимание уделяется фигуре Какудзо (1862–1913), положившего много сил на создание концепции «национального искусства». Именно он выработал теорию, в которой представил Японию как «музей азиатского искусства». Он имел в виду, что в Японии сохраняется все самое прекрасное, что было создано в Азии. Особую ценность придает книге перевод главного сочинения Какудзо «Идеалы Востока».
Это очень важная книга еще и потому, что в ней все по делу и в нет «охов» и «ахов», которые столь часты в работах иных искусствоведов.
Джон У. Дауэр. В объятиях победителя. М.: Серебряные нити, 2017. Перевод А. Г. Фесюна
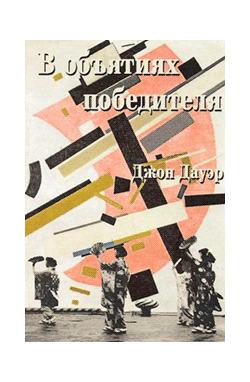 Американский профессор Джон Дауэр известен как один из самых вдумчивых и независимых исследователей Японии времени ее участия во Второй мировой войне. Известен он и своими «левыми» убеждениями, которые распространены среди американской профессуры, остающейся, как это положено, в меньшинстве.
Американский профессор Джон Дауэр известен как один из самых вдумчивых и независимых исследователей Японии времени ее участия во Второй мировой войне. Известен он и своими «левыми» убеждениями, которые распространены среди американской профессуры, остающейся, как это положено, в меньшинстве.
Сам я неоднократно обращался к его трудам при анализе японского тоталитаризма («Быть японцем: история, поэтика и сценография японского тоталитаризма»). Одна из книг Дауэра называется «Безжалостная война», где он блестяще демонстрирует ужасы той войны, в которой сошлись Япония и Америка. Сам подход автора тоже безжалостен — и по отношению к Японии, и по отношении к Америке. Дауэр — патриот настоящий. То есть он любит свою страну не слепо, а с оговорками, видя те подлости и несправедливости, которые она совершила и совершает.
Книга описывает те колоссальные проблемы (политические, культурные, материальные), с которыми столкнулись японцы в результате развязанной ими войны. В поле зрения автора — голодные люди, брошенные на произвол судьбы ветераны, бомжи, растерянность, комплекс национальной неполноценности, непонимание, что представляет из себя демократия, и, конечно же, клеймившие Америку вчерашние милитаристы, которые мгновенно превратились в ее лучших друзей... Дауэр подробно прослеживает, как проводились послевоенные реформы и как Япония превращалась из злейшего врага Америки в ее закадычного друга.

Айван Моррис. Благородство поражения. Трагический герой в японской истории. М.: Серебряные нити. 2001. Перевод А. Г. Фесюна
Блестящая книга английского исследователя, позволяющая многое понять в японской душе. Рассказ о том, как становятся в Японии героями проигравшие, которых на Западе называют лузерами, а у нас — неудачниками. Я уже имел удовольствие писать о ней на сайте «Горький». Очень рекомендую.