Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Elizabeth Popp Berman. Thinking like an Economist: How Efficiency Replaced Equality in U.S. Public Policy. NJ: Princeton University Press, 2022. Contents
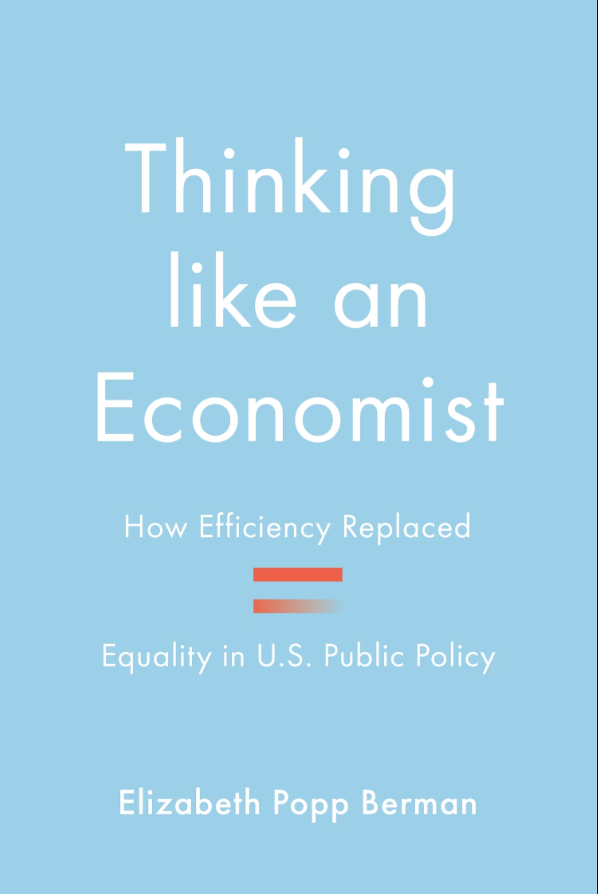 Книга Элизабет Попп Берман рассказывает о том, как американские политики и чиновники научились «думать как экономисты» и к каким политическим последствиям это привело. В центре повествования находится экономический стиль мышления — технократический подход к анализу проблем государственного управления, основанный на базовых принципах микроэкономики, приоритетом которого является эффективность. Опираясь на более чем 3000 опубликованных и архивных первоисточников, Берман отслеживает историю формирования и распространения экономического стиля в американской бюрократии и показывает, что стремление к эффективности ограничивает политическое воображение, причем по-разному для разных политических сил. Экономический стиль мышления, который принесли в Вашингтон леволиберальные экономисты-технократы, привел к смене приоритетов прогрессивной политики — как гласит подзаголовок книги, эффективность заменила равенство, — упрочив сдвиг вправо, который Демократическая партия США и американская политика в целом пережили после 1970-х годов.
Книга Элизабет Попп Берман рассказывает о том, как американские политики и чиновники научились «думать как экономисты» и к каким политическим последствиям это привело. В центре повествования находится экономический стиль мышления — технократический подход к анализу проблем государственного управления, основанный на базовых принципах микроэкономики, приоритетом которого является эффективность. Опираясь на более чем 3000 опубликованных и архивных первоисточников, Берман отслеживает историю формирования и распространения экономического стиля в американской бюрократии и показывает, что стремление к эффективности ограничивает политическое воображение, причем по-разному для разных политических сил. Экономический стиль мышления, который принесли в Вашингтон леволиберальные экономисты-технократы, привел к смене приоритетов прогрессивной политики — как гласит подзаголовок книги, эффективность заменила равенство, — упрочив сдвиг вправо, который Демократическая партия США и американская политика в целом пережили после 1970-х годов.
Как вообще экспертиза может влиять на политику? Часто этот вопрос ставят как вопрос о роли «идей» в политике: дескать, оппортунизм постсоветских элит объясняется неправильным представлением о конкуренции как об игре с нулевой суммой, почерпнутым из советского курса политэкономии. Такая постановка вопроса восходит к знаменитому рассуждению Макса Вебера о «картинах мира», способных направить ход человеческого действия в решающие моменты истории:
Над человеческим действием непосредственно господствуют интересы (материальные и идеальные), а не идеи. Однако «картины мира», создаваемые «идеями», очень часто выполняли роль стрелочников, определяющих тот путь, по которому динамика интересов тянет вперед человеческое действие (цитата по переводу).
Продемонстрировать каузальную роль картин мира эмпирически очень сложно. Очевидно, что значение имеют не просто идеи, а идеи господствующих групп (которые, по Марксу и Энгельсу, и являются господствующими идеями), способных принимать решения со значимыми для других последствиями. Но тогда необходимо показать, что, во-первых, представители этих групп действительно соотносят свои решения с той или иной совокупностью идей. Во-вторых, объяснить, почему именно эти, а не какие-то другие идеи приобрели такое влияние. В-третьих, исключить альтернативные объяснения — например, что та или иная государственная политика определяется борьбой интересов и политической конъюнктурой, а не картиной мира проводящих ее элит.
Таковы основные возражения, на которые наталкиваются аргументы о роли идей в политике — например, неолиберальных идей в экономических реформах посткоммунистических стран. Современная социология, на которую опирается Берман, смотрит на эту проблему иначе: в центре внимания находятся не сами идеи или картины мира, а совокупность социальных и материальных условий, благодаря которым они приобретают политические эффекты. Прежде чем сыграть роль веберовских «стрелочников», идеи кто-то должен сформулировать, распространить и наделить авторитетом, чтобы к ним прислушались.
Например, каким образом приобретают влияние экономические идеи? Во-первых, политики или бюрократы могут обратиться за советом к экономистам из уважения к престижу этой академической дисциплины. По сравнению с другими социальными учеными, у экономистов больше денег и возможностей давать советы руководителям государств и корпораций; кроме того, они уверены в своей компетентности для решения мировых проблем. Примером влияния профессионального авторитета экономистов может послужить карьера Джеффри Сакса, который проделал путь от консультанта правительств Боливии, Польши, Словении, Эстонии, СССР и ельцинской России по вопросам рыночных реформ до адвоката Целей устойчивого развития ООН.
Во-вторых, даже если экономическая экспертиза не пользуется особым престижем, ее носители могут занимать ключевые бюрократические должности, причем не только в банках и профильных министерствах. Так было с «чикагскими мальчиками» в Чили времен Пиночета и «правительством завлабов» во главе с Гайдаром и под патронажем Ельцина в России 1990-х. Менее известный, но более интересный пример — экономические реформы Эрнесто Че Гевары, в основу которых лег проделанный им критический анализ марксистской политэкономии и ошибок советского планирования.
В-третьих, экономическая экспертиза — это не только идеи и их физические носители, но способы репрезентации экономики (например, с помощью таких показателей, как ВВП), процедуры принятия решений (например, анализ выгод и затрат), а также особый стиль мышления — умение рассуждать как экономист, даже не будучи таковым. Как пишет Берман, стили мышления
...представляют собой набор ориентирующих понятий, способов мышления о проблемах, каузальных допущений и подходов к методологии. Экономический стиль мышления... начинается с базовых микроэкономических понятий, таких как стимулы, различные формы эффективности и экстерналии. Он придерживается специфического подхода к проблемам государственного управления, который предполагает использование моделей с целью упрощения, квантификации и сопоставления затрат и выгод, а также мышление в терминах предельных величин. Он также включает в себя каузальные истории, связанные с экономическими теориями — например, что инвестиции в образование увеличивают человеческий капитал и уровень доходов.
Стили мышления шире, чем конкретные теории, модели и подходы, существующие в экономической науке и экономической политике, и потому применимы к более широкому кругу проблем. Они создаются и развиваются ведущими факультетами экономики, но, в отличие от научных парадигм, не связаны с образцовыми способами постановки и решения исследовательских проблем узкими группами ученых, работающих в конкретных содержательных областях. Владение экономическим стилем мышления можно сравнить с интерактивной экспертизой, которой хватит, чтобы компетентно пользоваться экспертным знанием, но недостаточно, чтобы внести в него оригинальный вклад. Чтобы приобрести такую экспертизу, не обязательно получать PhD по экономике — хватит и университетского курса.
Стиль мышления влияет на то, как политики, чиновники и регуляторы видят социальные проблемы и способы их решения. Например, проблему загрязнения воздуха можно рассматривать с точки зрения экологии — как угрозу хрупкому экосистемному балансу, или с точки зрения социальных прав — как нарушение права на здоровье и чистую окружающую среду. В обоих случаях решением будет снижение загрязнения до минимального уровня, насколько позволяют технологии. Реализовать это решение можно, например, через установление жестких стандартов чистоты воздуха и строгий контроль их соблюдения.
Напротив, с экономической точки зрения, загрязнение воздуха — это экстерналия, побочный эффект экономической деятельности, часть издержек которой вынуждены нести третьи лица. Устранить этот эффект можно, установив цену на единицу выбросов и обложив загрязняющее воздух предприятие соответствующим налогом. Этот налог увеличит цену производимых продуктов, так что издержки загрязнения будут нести не люди, живущие рядом с производством, а конечные потребители. Альтернативой налогу может стать рынок прав на загрязнение. Государство устанавливает максимальный объем выбросов, в пределах которого распределяются квоты. Для одних компаний соблюдение квот окажется слишком дорогим, для других — наоборот, так что более «чистые» компании смогут продать часть своих прав на загрязнение тем компаниям, которым дешевле купить дополнительные квоты, чем сократить выбросы.
Хитрость в том, что уровень загрязнения, который установится в результате, не обязательно будет минимально возможным. Экологический и правовой подходы ориентированы на достижение содержательной цели снижения выбросов и не учитывают, что она повлечет за собой издержки, причем разные для разных фирм. Экономический стиль мышления ставит во главу угла эффективность — поиск наилучшего соотношения между содержательной целью и затратами на ее достижение, независимо от того, в чем именно эта цель заключается. Вопрос об устранении выбросов по моральным или экологическим соображениям превращается в вопрос поиска оптимального уровня выбросов, избегающий моральных оценок. Экономический стиль претендует на политическую и этическую нейтральность и именно этим привлекает своих сторонников, видящих в нем не более чем технократическую процедуру принятия решений. Берман приводит слова Чарльза Шульце, «архетипического экономиста-демократа»: задача экономистов в Вашингтоне — представлять «партию эффективности».
У экономического стиля нет собственной политической платформы: исторически многие его сторонники придерживались левоцентристских позиций, но не занимались его продвижением как осознанным политическим проектом. Вместе с тем экономический стиль мышления содержит ряд неявных допущений о том, как устроен политический процесс и какие формы политики являются наиболее предпочтительными. Берман называет эту неявную идеологию демократическим центризмом. Участию в демократической политике, которая требует завоевания массовой поддержки и демонстрации верности заявленным позициям, технократы предпочитают прямую коммуникацию с представителями власти в формате policy advice.
Этической платформой экономического стиля мышления является утилитаризм и консеквенциализм — для оценки решений важны не соответствие моральным ценностям или политическим принципам, а способность их последствий увеличить экономическое благосостояние наибольшего количества людей. Еще в 1960-е годы такой подход был чужд большинству американских политиков и чиновников, многие из которых придерживались деонтологической этики. Например, деонтологическое правило «человеческая жизнь священна» исключает возможность эксплицитной оценки ценности жизни, тем более — в денежных единицах, хотя именно таких оценок порой требует экономический анализ государственной политики. В 1968 году экономист Томас Шеллинг предложил обходной путь, введя понятие ценности статистической жизни (value of statistical life) — денежной оценке подлежала не жизнь, а небольшое снижение риска смерти. Привлекательность экономического стиля мышления связана с его претензией на механическую объективность — способность устранить субъективное моральное суждение из процесса принятия решений, сведя его к механическому следованию формальным правилам. Как показывает Берман, попытка опереться на правила, чтобы не делать этический выбор, сама является таким выбором.
Хотя экономический стиль мышления поначалу противоречил моральной интуиции американских чиновников, сам факт использования экономической экспертизы в государственном управлении не был чем-то новым. Эта практика сложилась в период между двумя мировыми войнами, бывший временем инноваций и экспериментов в государственном управлении, экономическом планировании и экономической статистике, с помощью которой государства учились «видеть» экономику. По одной из версий, именно в 1930-е годы появляется и само понятие the economy, подразумевающее, что «экономика» — это не просто обобщенное наименование одного из аспектов человеческого поведения, связанного с хозяйственной деятельностью, а что-то вроде физической реальности со своими законами, которую следует не столько интерпретировать, сколько наблюдать извне, моделировать и измерять. По мере роста амбиций и возможностей межвоенных государств по управлению экономической жизнью, им требовалось эксперты, претендующие на знание о том, как работает экономика, — экономисты. Не стали исключением и США, переживавшие «левый поворот» (по выражению Майкла Манна).
Первыми в Вашингтон пришли институциональные экономисты, предпочитавшие математической теории сравнительно-исторические исследования, а формальным моделям — «большие» количественные данные; затем — кейнсианцы, чьи фокусом были макроэкономические вопросы занятости, экономического роста и инфляции. Интеллектуальное влияние обеих «волн» было ограничено отдельными структурами американского госаппарата и специализированными вопросами экономической политики и снижалось по мере заката соответствующих парадигм в экономической науке. Тем не менее они укрепили позиции экономического знания в Вашингтоне и сделали возможной его дальнейшую экспансию в бюрократическом аппарате США — создали инфраструктуру сбора и анализа экономической статистики (вроде NBER), постоянно действующие консультативные органы (вроде CEA), а также сделали саму практику использования экономической экспертизы в государственном управлении чем-то привычным.
Эти достижения помогли третьей волне экономистов, пришедших работать в американское государство в середине 1960-х годов. В отличие от своих предшественников, они были представителями неоклассической парадигмы, которая стала доминировать в экономической науке после Второй мировой войны. С точки зрения неоклассиков, предметом экономики как науки является человеческое поведение, рассматриваемое с точки зрения соотношения целей и ограниченных средств для их достижения, предполагающих альтернативное использование. Такой подход почти неограниченно расширяет область применения экономической экспертизы. Опираясь на это определение и аналитический инструментарий микроэкономики, новое поколение экономистов отправилось в Вашингтон, чтобы сделать работу государства и регулирование рынков более эффективными. Они работали над широким кругом вопросов и придерживались различных взглядов на экономическую политику, но разделяли общий набор допущений: экономика — это наука о рациональном принятии решений; решения принимают индивидуальные агенты (потребители, фирмы или чиновники), максимизирующие свою полезность; процесс принятия решений можно смоделировать как задачу оптимизации с ограничениями.
Берман подробно реконструирует экспансию экономического стиля мышления в американской государственной бюрократии, отслеживая траекторию двух групп экспертов. Первой такой группой были системные аналитики из корпорации RAND, основанной ВВС США в 1948 году с целью продолжения и обобщения междисциплинарных исследований времен войны. В 1950-е годы экономисты и математики RAND разработали формальный подход к принятию решений, получивший название системного анализа (изначально «анализ систем вооружения»). Идея системного анализа заключалась в максимальной формализации стратегического управления, то есть процесса постановки и приоритизации целей. Американская управленческая мысль традиционно разграничивала стратегическое и оперативное управление. Первое считалась прерогативой высшего корпоративного руководства, которое принимало решения в условиях неопределенности, руководствуясь интуицией и лидерскими навыками, не поддающимися формализации. Напротив, работа менеджеров среднего и низшего звена, направленная на решение однотипных задач, была формализована и стандартизирована еще в 1920-е годы на основе принципов научного управления Ф. У. Тейлора. Системный анализ подрывал автономию высшей администрации, настаивая на необходимости экспликации каждого этапа процесса принятия решений — его сторонники требовали, чтобы интуиция согласовывалась с «количественным здравым смыслом».
После победы Джона Ф. Кеннеди на президентских выборах, министром обороны США стал Роберт МакНамара — выпускник Гарвардской школы бизнеса, во время войны занимавшийся повышением эффективности бомбардировочной авиации, а после ее окончания — реорганизацией управления Ford Motor с помощью управленческих разработок военного времени. Став министром обороны, он собрал команду аналитиков из RAND, которые адаптировали системный анализ к новому контексту, разработав систему «Планирование — программирование — бюджетирование» (Planning — Programming — Budgeting System, PPBS). PPBS представляет собой пошаговый алгоритм принятия бюрократических решений. На этапе планирования министерства и ведомства устанавливают конкретные цели, которые переводятся в измеримые показатели; затем происходят выбор программ, позволяющих достичь их, и расчет эффективности затрат для каждой из программ.
Выбор эффективности затрат в качестве критерия хорошей политики имеет свои последствия. Например, с точки зрения PPBS, ограниченные программы здравоохранения, основанные на проверке нуждаемости и более дешевые для государства, всегда будут предпочтительнее универсального медицинского страхования, в основе которого лежит идея безусловного права на медицинскую помощь.
Опыт использования PPBS был признан успешным и вскоре система распространилась за пределами Министерства обороны; в 1965 году президент Джонсон анонсировал внедрение PPBS во всех структурах исполнительной власти. Рационализация процесса принятия решений в госаппарате оказалась для PPBS слишком амбициозной целью, однако внедрение этой системы в бюрократические процедуры, в частности в работу крупнейшего Административно-бюджетного управления, сделало экономический стиль мышления их частью, создав спрос на кадры, обладающие соответствующей подготовкой. Школы публичной политики (public policy schools), появившиеся на рубеже 1960-х и 1970-х годов, быстро заняли открывшуюся рыночную нишу, начав готовить выпускников, которые, не будучи экономистами, хорошо владели анализом затрат и выгод и другими элементами экономического стиля.
Второй группой экспертов, ответственных за продвижение экономического стиля мышления, были академические экономисты, работавшие в области теории отраслевых рынков. В отличие от системных аналитиков, они стремились не к рационализации бюрократических решений, а к повышению эффективности регулирования рынков. Левоцентристы из Гарвардской школы считали, что для этого требуется существенное вмешательство государства, тогда как консервативные либертарианцы из Чикагской школы настаивали на его минимизации. Независимо от политических разногласий, обе школы исходили из того, что целью регулирования рынков было достижение наиболее эффективного распределения ресурсов, и игнорировали альтернативные цели — например, предотвращение концентрации рыночной власти или защиту малого бизнеса как ключевого института американского общества.
В 1960-е и 1970-е эти идеи проникли в аналитические центры (например, Brookings или AEI) и государственные ведомства (например, FTC), занятые антимонопольной политикой. Еще более важно, что экономисты принесли свой стиль мышления в школы права, готовящие кадры для антимонопольного регулирования, создав влиятельное движение «право и экономика». В результате экспансии экономического стиля мышления в регулирующих органах и на юридических факультетах сложилась новая интерпретация американской антимонопольной доктрины. Появившись в эпоху прогрессивизма, она была направлена на ограничение политического влияния крупного бизнеса и экономического неравенства; к 1980-м годам главным приоритетом антимонопольного регулирования стала эффективность распределения благ, основным показателем которой считалось снижение цен для конечных потребителей, даже если оно достигается за счет концентрации рыночной власти.
Хотя адепты экономического стиля мышления видели в нем деполитизированную технологию принятия решений, позволяющую сделать работу государства более эффективной, у самого стремления к эффективности были политические последствия. Либеральные технократы не отдавали себе отчет в том, что эффективность — это не только технический параметр, но и нормативный идеал, нередко конфликтующий с другими такими идеалами, например универсализмом, равенством или правами человека. Как показывает Берман, начиная с 1970-х годов в полемике о проблемах социальной политики, антимонопольного регулирования, реформы здравоохранения и другим вопросам экономисты-демократы часто оказывались на одной стороне не со своими однопартийцами, а с умеренными республиканцами:
Либеральные сторонники экономического стиля часто обнаруживали себя в ситуации, когда их приверженность эффективности как ключевой добродетели государственной политики вступала в прямой конфликт с позициями либеральных демократов, в том числе поддержкой всеобщего медицинского страхования, ограничения концентрации промышленности и установления строгих и негибких экологических стандартов. Эти позиции опирались на альтернативный набор последовательных логик: принципы социального страхования и убеждение, что каждый человек имеет право на медицинскую помощь; обеспокоенность угрозами, которые концентрация экономической власти создает для демократии; взгляд на загрязнение окружающей среды как на моральное нарушение, предотвратить которое могут строгие стандарты.
Конечно, ценность эффективности конфликтовала не только с либеральными, но и с консервативными ценностями. Например, поддержка демократическими экономистами отрицательного подоходного налога как средства борьбы с бедностью противоречило консервативному аргументу о нравственной ценности труда. С другой стороны, технократический проект рационализации государственного управления не обязательно означал сокращение государственного аппарата, за которое ратовали консервативные республиканцы.
Тем не менее экономический стиль мышления ограничивал либеральную политику сильнее, чем консервативную. Возведение эффективности в статус приоритета государственной политики ничего не говорит о целях этой политики, поэтому либеральным технократам часто было нечем ответить на содержательные аргументы консерваторов. В 1970-е годы они поддерживали отрицательный подоходный налог как более эффективную альтернативу семейным пособиям, но им было нечего возразить на консервативный аргумент о том, что государство в принципе не должно заниматься решением проблемы бедности. В терминах Дэвида Грэбера, демократы стали жертвами «онтологического гамбита», сделав ставку на инфра-ценность эффективности, указывающую на то, как следует стремиться к достижению содержательных ценностей, в ущерб этим последним.
В конечном счете попытка избежать участия в политике сыграла с либеральными технократами злую шутку. В отличие от демократов, республиканцы не боялись использовать экономический стиль стратегически, поддерживая императив эффективности там, где это соответствовало их политическим целям, и игнорируя его в остальных случаях. Уже администрация Никсона поощряла эксперименты с безусловным базовым доходом, обоснованные экономическими аргументами, поскольку видела в них альтернативу более радикальным программам по борьбе с бедностью. Администрация Рейгана действовала еще более оппортунистически, поощряя экономическую экспертизу антимонопольной политики и экологического регулирования, поскольку ее выводы помогали обосновать сокращение государственного регулирования, и игнорируя рекомендации экономистов применительно к социальной политике, где они могли привести к расширению расширения социального государства.
Приверженность демократов ценности эффективности лишила их мощного риторического ресурса — языка универсализма, равенства и прав человека, став еще одним фактором дрейфа партии вправо. В 1970-е годы экономический стиль мышления постепенно становился частью бюрократических процедур и образовательных программ, дебатов в Конгрессе и судебных решений. Его институционализация закрепила сдвиг демократов вправо, усложнив политическую аргументацию, апеллирующую не к эффективности, а к равенству, справедливости и другим содержательным ценностям. По мнению Берман, именно этим объясняются неудачи прогрессивной политики в современных США — требование эффективности ограничивает политическое воображение и снижает амбиции лидеров демократов, рассуждающих в терминах выбора, конкуренции и экономической эффективности и остающихся ближе к современным республиканцам, чем к своим однопартийцам времен Нового курса.
Политический вывод Берман — прогрессивным демократам необходимо отказаться от слепого технократизма и отрефлексировать собственные ценности и политические цели, не пытаясь заменить их абстрактной эффективностью. Экономический стиль мышления следует использовать там, где он согласуется с приоритетами универсалистской и эгалитарной политики, не переоценивая его значение, — в конце концов, иногда верность ценностям важнее экономической эффективности. Книга Берман вносит новый вклад в исследования политического влияния экспертизы, показывая, как стиль мышления, не связанный с конкретными политическими программами и парадигмами государственного управления, меняет структуру политических возможностей для разных партий. С исторической точки зрения она предлагает свежий взгляд на траекторию американской политики после 1970-х годов, дополняющий обширную литературу о неолиберализме.
В заключение стоит отметить, что, хотя книга Берман написана на американском материале, похожие процессы можно обнаружить в истории постсоветской России и, шире, посткоммунистических стран. Прежде всего бросается в глаза то, что можно было бы назвать политической недодетерминированностью экономической экспертизы. Как пишет Берман, администрация Картера поддерживала и расширяла применение анализа затрат и выгод, чтобы сделать государственное регулирование более эффективным, несмотря на сопротивление левого крыла Демократической партии. Придя к власти, Рейган провозгласил курс на «регуляторные послабления» (regulatory relief), который стал прологом к политике дерегулирования экономики в интересах бизнеса, проводившейся независимо от баланса затрат и выгод. Похожий сдвиг от умеренного реформизма к демонтажу реформируемой системы можно наблюдать в истории стран «реального социализма». С конца 1950-х годов неоклассические экономисты-математики в Советском Союзе, Чехии, Венгрии и Югославии безуспешно стремились реформировать социализм изнутри, рассматривая рынок как инструмент демократизации. В изменившемся политическом контексте после 1989 года их аргументы стали использоваться для обоснования невозможности реформировать социализм и необходимости «строить капитализм», даже ценой отказа от политической демократии, поскольку массы не поддержат «непопулярные реформы». Сегодня, на излете постсоветской эпохи, становится предельно ясно, что гамбит либеральных технократов в России провалился даже с большим треском, чем в США.
