Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Герман Лукомников. Стихи из России (2022—2023). Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2023
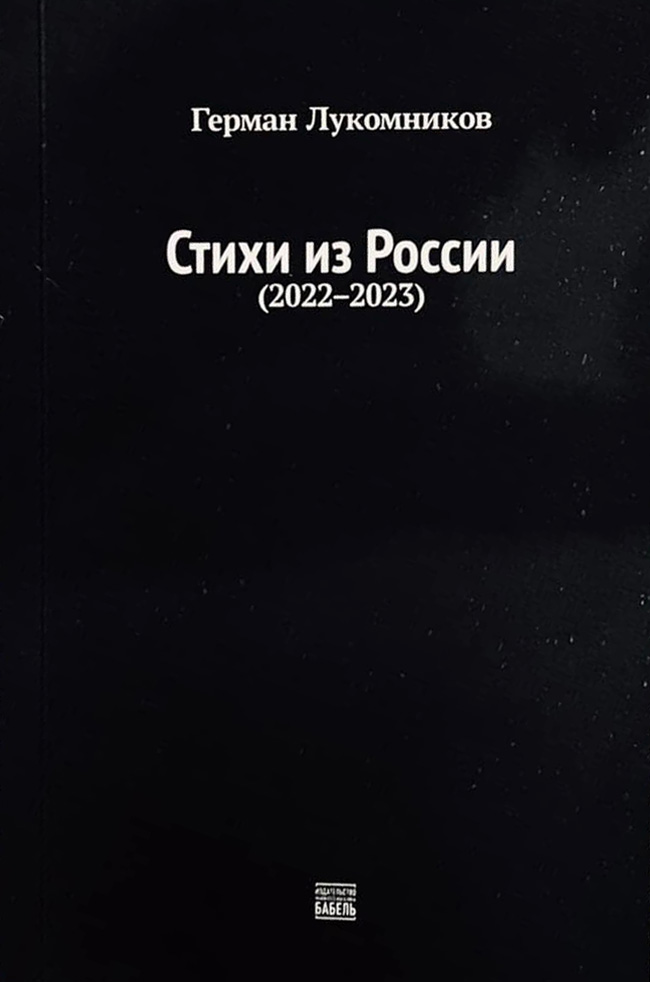 Когда-то мы рецензировали детскую книгу Германа Лукомникова. Теперь время книги недетской.
Когда-то мы рецензировали детскую книгу Германа Лукомникова. Теперь время книги недетской.
Лукомников — виртуоз игровой и комбинаторной поэзии, один из главных авторов в этих жанрах за всю их русскоязычную историю. Если поэзия способна говорить о страшном, о войне, о несправедливости, о вине — подходит ли для этого такая поэзия, как у Лукомникова? Оказывается, да: перед нами хроника отчаяния и сопротивления, выраженная средствами, доступными поэту. Даже если ясно, что этого больше чем недостаточно:
Это я, Герман Лукомников,
не смог остановить сумасшедших полковников.
Мои поэтические строчки
не спасли ничьего сына, ничьей дочки.
Здесь должно быть какое-то продолжение,
но я не нахожу подходящее выражение
Тем не менее лукомниковские средства способны превратить короткий текст в лозунг, афоризм. Способны подать сигнал «вы не одни» многим людям — это буквально так: публикация стихотворений, вошедших в эту книгу, в журнале «Волга», по разным отзывам, стала одним из главных поэтических событий года.
Как и другие книги, посвященные катастрофе после 24 февраля, эта начинается из затакта, в самом начале 2022-го, с текста вполне эпиграфического: «Густ, / Хоть тонок / Колос / Ржи. / Пуст, / Хоть звонок / Голос / Лжи». На языке комбинаторики такой прием называется панторифмой: у всех слов есть рифменное соответствие. Но дальше книга входит в состояние, когда рифмы отказываются подбираться. Некоторое время она движется за счет чуть переиначенных цитат («Мы живём, под собою не чуя страны, / Наши речи уже вообще не слышны»; «я не Палах // я точно не Палах / я не полыхну»), комбинирует их — окончательно увязывая двух поэтических тараканов XX века:
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!»
Некоторое время она обходится голым словом: «жить / стало / тошно // слов нет». Но затем на смену почти бессловесному отчаянию приходит анализ: Лукомников реагирует на новые штампы и эвфемизмы («Разговоры о войне — / Это аберрация. / В братской дружеской стране / Идет спецоперация»; «Если долго говорить, / Что, мол, можем повторить, / Все, как говорится, / Может повториться»). Не обходится без инвектив в сторону «нашего пахана» и его присных, без рефлексии на тему русской классики, ее ответственности, ее использования в качестве ширмы: «луч света в темном царстве / разрезал всех на части», или:
Сто старушек замочу —
Покаяньем заплачу.
Заплачý-заплáчу...
Чувств своих не прячу!!!
Читатель, хорошо знакомый со стихами Лукомникова, может заметить, что его новые тексты часто избегают привычной филиграни. Но это кажется естественным в ситуации, когда поэт пытается одновременно сконструировать чужую или коллективную идентичность и переживает утрату собственной: «Был я гений и талант / Эти вехи пройдены / Стал российский оккупант / И предатель Родины». Поэт оказывается не человеком, а перекрестком жестоких оценок. Это тяжелое положение, тут не до кунштюков, а те формулы, что все-таки удается найти, произносятся как единственно возможные. «двадцатые / проклятые» — не такая богатая рифма, как «сороковые, роковые», но точная вне стиховедческой терминологии.
Константин Рубахин. Линия соприкосновения. Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2023
 «Линия соприкосновения» — это линия между до и после 24 февраля 2022 года; в первую часть книги входят стихи, вместившие опыт эмиграции, невольной ностальгии и довольно жесткого ее подавления, во вторые — стихи на тему войны, единственную, о которой теперь получается думать. Тема эта действительно соприкасается с новой русской поэзией вплотную — характерно, что книга Веры Павловой, вышедшая в издательстве Freedom Letters, называется так же.
«Линия соприкосновения» — это линия между до и после 24 февраля 2022 года; в первую часть книги входят стихи, вместившие опыт эмиграции, невольной ностальгии и довольно жесткого ее подавления, во вторые — стихи на тему войны, единственную, о которой теперь получается думать. Тема эта действительно соприкасается с новой русской поэзией вплотную — характерно, что книга Веры Павловой, вышедшая в издательстве Freedom Letters, называется так же.
Несколько предисловий, предпосланных книге, дышат почти что исступленной признательностью к автору: смысл этих признаний в том, что честность и накал его стихов служат оправданием целого поэтического поколения — по крайней мере в настоящий момент. Послефевральские стихи поэта и политэмигранта Рубахина, сохраняя прежнюю манеру (о которой чуть впереди), становятся острее и отчаяннее. Они рисуют коллективный портрет мобилизованной на смерть нации — и констатируют распад любого позитивного содержания общей памяти:
мы поедем чтоб нас убили
мы давно уже не живем
хоть идем или в автомобиле
то есть если особенно в нем
мы продали вперед наше время
и отдали зарплату жене
или просто смеялись над всеми
над собою вдвойне
так слабак не продолжит шутку
только сильный и мертвый внутри
согласится пойти по маршруту
до последней двери
Конечно, говорящий не принадлежит к этим «мы» — но «мы» в данном случае и форма художественного вживания, и форма принятия ответственности. Рубахин в «Линии соприкосновения» постоянно становится на разные точки зрения — в том числе на позицию человека, продолжающего в мыслях мандельштамовское «для того ль должен череп развиться» («были нежными в макушке / в шапке меховой / ночевали на подушке / думали собой» — это о мозгах, которые теперь лежат на земле). Или на знакомую всем позицию ошеломленного листателя ленты новостей или соцсетей. В одном из лучших стихотворений книги смерть на войне остраняется через действия наблюдателя — но, разумеется, о реальной подоплеке переданного пикселями события забыть невозможно:
очень быстро меняется жизнь на смерть
в моей ленте мгновенных злых новостей
вот бежит человек сквозь дрожащий кадр
вот он выдохнул и упал
его номер — двести непрожитых лет
его сила — попасть на свет
он под пальцем моим завис на сек
и поехал вверх
«Очень быстро» — важная проговорка: письмо Рубахина — поэтическая скоропись; его рифма — часто минимально приближенное, опять-таки распадающееся созвучие: «теперь перед ними открытое / поле как было в учебнике / все что найдешь убитое / станет твоими трофеями»; «вот своей смертью упавший старик / сердцем не понявший взрыва / вот муж и жена, отпечаток от их / дочки, а может быть, сына». Это напоминает манеру Андрея Родионова, своего рода звуковой брутализм — быстрому письму 2022 года он сообщает естественность.
Как в теории относительности время неотделимо от пространства, так в поэзии временная демаркация неотделима от географической. Это чувствуется в стихах Рубахина еще 2010-х: «от меня до москвы век / до берлина час или ночь / географии больше нет / да и сам я уже не оч». Но в точке «здесь и сейчас» география и ощущение фатальной границы очень даже есть: «где я родился был убит и выжил / откуда как из лагеря бежал / к чему нельзя мне оказаться ближе / последнего у нарвы гаража».
За этим гаражом начинается пространство глубоко чужое, когда-то бывшее своим: «оттуда знаки подает экран / несет народ семейные портреты / все козыри у них в руках согреты: / ракеты, домострой, пахан, наган» (стихи 2018 года). Проблема своего и чужого — ключевая для книги: линия соприкосновения проходит и между этими категориями. Процитируем предисловие Елены Фанайловой, написанное в форме письма автору: «опыт политической эмиграции, который тебе пришлось пережить, по‑новому выстраивает оптику отношений с топографией детства, во многом уже воображаемой, где ребенок был и райски счастлив, и адски несчастен. Думаю, что твоя экологическая, а также психологическая и текстологическая зацикленность на Хопре и деревне Алферовка, откуда родом твой отец, имеет примерно те же основания, почти архетипические». Деревня Алферовка, образы отца и деда в самом деле появляются в обеих частях книги постоянно (где-то рядом, кстати, и Воронеж, и весь воронежский мандельштамовский подтекст). Но если в первой части мы встречаем много тяжело-ностальгических текстов («мне поле арбузное снится / отец бьет кавун черенком / и красная брызжет водица / на лучший в стране чернозем / зеленая летом природа / спешит нагулять аппетит / чтоб ночью осенней гнилого / у смерти тепла увести»), то в какой-то момент возникает жестокий вопрос: есть ли о чем ностальгировать? Но память никуда не девается; больше того, только она способна предложить замедление — своего рода переход от полюса Родионова к полюсу Цветкова, к глубоким подробностям.
пора ложиться в писке комарином
и воздухе из рыбы и белья
в постели меня бабушка давила
чтоб не унес невидимый меня
теперь сложнее всех оттуда выкрасть
земля надежный полупроводник
моей семье назад уже не выпасть
все остальное держится на них
это граница с вольной украиной
подземный суржик — основной язык
алферовка им сотни лет хранима
и до сих пор им снизу говорит
Елена Костылева. Cosmopolitan. М.: Новое литературное обозрение, 2023
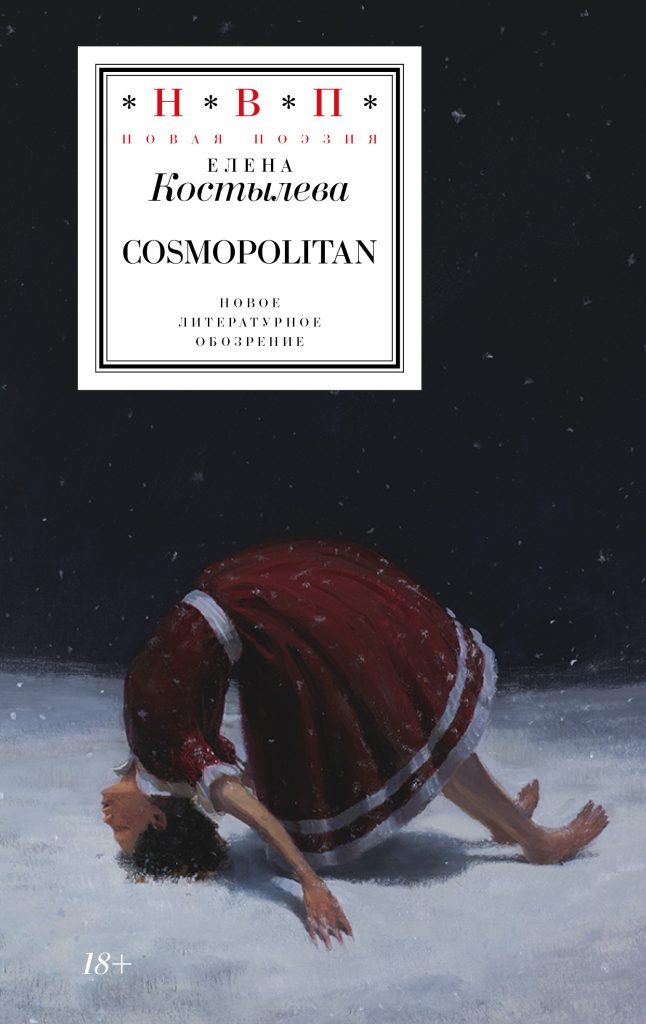 Елена Костылева — поэтесса, критик, одна из создательниц проекта «Ф-Письмо» и в прошлом участница группы «Война» (она сыграла, в частности, ключевую роль в одном из самых скандальных их перформансов — о чем в книге «Cosmopolitan» есть стихотворение-мемуар). В своей поэзии Костылева много лет работает с телесностью и сексуальностью — одновременно исследует и аффектирует, оценивает и запечатлевает. В новом сборнике, представляющем стихи, написанные за пару десятилетий, вся эта работа очень наглядна.
Елена Костылева — поэтесса, критик, одна из создательниц проекта «Ф-Письмо» и в прошлом участница группы «Война» (она сыграла, в частности, ключевую роль в одном из самых скандальных их перформансов — о чем в книге «Cosmopolitan» есть стихотворение-мемуар). В своей поэзии Костылева много лет работает с телесностью и сексуальностью — одновременно исследует и аффектирует, оценивает и запечатлевает. В новом сборнике, представляющем стихи, написанные за пару десятилетий, вся эта работа очень наглядна.
На протяжении всей книги встает вопрос о связи секса и любви: Костылева раз за разом как бы нарушает неписаные дискурсивные правила игры, то обрывая сама себя, то напрямую назойливо обращаясь к возлюбленным — что напоминает об эксперименте Крис Краус, которая в романе «I Love Dick» приписала традиционную «мужскую» модель ухаживания героине-женщине. В любовных текстах Костылевой проступает жалобное элегическое начало: «О Ванечка, Сергей мне не звонит. / О Ванечка, никто меня не любит. / Ни вы, ни безумный профессор...» От любви всегда нужно что-то большее («давай / вытащим все, что возможно / из этой любви / о брат»), но при этом она позволяет находить оправдание любым сексуальным аффектам, добавляя к ним дополнительный смысл: «Кончить под самую простую порнушку, / И, проникаясь в момент оргазма / Чем-то лирическим, тут же найти / Этому обоснование: это тебя, это тебя я так люблю...» Показательна в этом отношении поэма о порнографии, в которой героиня рассказывает о желании вступить в душевный контакт с актерами и актрисами, узнать их бэкграунд; текст о желании превращается в реквием по людям, исполнявшим роли в порнофильмах и фантазиях:
Эй, кто-нибудь помнит майора Томина?
Оглянешься — а уже никого нет
И психоаналитик
И волк умер
И лиса умерла
В контактном зоопарке меркнет свет
Агрессивное открытие сексуальности было свойством русской поэзии 1990–2000-х: в книге есть вещи, звук которых отчетливо напоминает то время, с его театрализацией быта, желанием «дать голоса» акторам — даже тем, кто об этом не просил. Если в этом и есть ностальгия, то она распространяется за пределы «личного». Это разговор из современности (в которой живое общение воплощают скорее не тела, а бестелесные голосовые помощники) о прошлом — уходящем вдаль на много веков. Прием вставной интонации, собственно, и приводит Костылеву к тому, что в ее текстах обнаруживаются обломки старых жанров, своего рода spolia — тут и там блеснет элегия («Я не хочу туда где ты / И хлад прощальный») или отрывок оды:
Как будто кто-то разорвал бумагу
И окунул в чернила край —
Синай!
О море, выпившее влагу
Земли
Расчистившие небо
Ветра
Хребты неведомого зверя
Чернеет кровь, железо, магма
О сердце мира, роза ветра,
До человека, до ответа
Мираж, пустыня сна, сгорай!
Услышавшая глас
Молчи, прижавши чресла к сотворенью
Не оглянись, но стань
Сама под стать сему явленью
Так можно дойти до самого конца/начала словесности и сексуальности — которое и ждет нас в финале книги: «Еще озаренные светом господним, они берут / Яблоко / И оно падает / Недалеко / Тогда они снова его берут». Это многожанровая книга, стихотворения в ней работают то как концептуалистская реплика физиологического очерка («Во время оргазма француженка думает: любит-не любит. / Советская женщина рассматривает потолок»), то как переосмысление древнего мифа о Пасифае и быке — поводом для которого, кажется, становится мизогинистское слово «телка»: «Ванечка, я поняла, что я Пасифая / телка вокруг меня, я слепая / телка вокруг меня, деревянная, с дыркой / бык е... меня, Ваня, это нормально?!» (отметим с грустью, что отточия не позволяют понять, бык сейчас е... или е... когда-то давно). Конфессиональность оттеняется здесь технической шуткой — которая, кажется, сродни приемам из пособий по технике секса: «говорил everything’s good, everything’s fine. come / мои пальцы отпихивал языком». При этом — как и в случае с быcome — всегда возникает вопрос о временном зазоре между сексом и его описанием. Говорящая практически всегда успевает уйти из ситуации. Она уже не здесь, она смотрит на происходящее как будто не c этого света:
симметрия
неумолимый угол
все три (неумолимые) угла
в любовном треугольнике из трех несвежих кукол
давайте без меня, я умерла
Временной зазор сообщает рефлексии о любви и сексе тон иронии и сожаления. Все это заставляет думать, что воспоминания о сексе — род мемориального эскапизма. Но Костылева умеет напомнить, что мы живем здесь и сейчас — когда и любовь, и сладкие воспоминания о ней синхронны с насилием и пытками.
Я хочу только тебя и пытки ЛГБТ
Только тебя Чечня
Только хардкор
Только молчание гор
Только тебя Чечня
Они расстреляют тебя если узнают
Только тебя Чечня
С тем, о чем обычно молчат; тем, что скоро исчезнет и из пуш-уведомлений.
