Стихи в большом городе
Рецензия на книгу Вадима Месяца о себе, Бродском и литературном Нью-Йорке
Вадим Месяц. Дядя Джо. Роман с Бродским. М.: Русский Гулливер, 2020
 Новый автобиографический роман Вадима Месяца называется «Дядя Джо. Роман с Бродским» не случайно. По словам автора, Иосиф Бродский позволил ему так себя называть — со времени их совместного путешествия по Южной Каролине, описанного в книге. Поэт вдруг «взял сентиментальную ноту» и посетовал, что ему на Западе поначалу было непросто. Месяц, перебравшийся в США на двадцать лет позже собеседника, откликнулся на откровение просьбой усыновить его: дескать, ему тоже одиноко на чужбине, он «покинул Святую Русь, вышел за пределы родной речи и ментальности» ради того, чтобы быть рядом со своим кумиром.
Новый автобиографический роман Вадима Месяца называется «Дядя Джо. Роман с Бродским» не случайно. По словам автора, Иосиф Бродский позволил ему так себя называть — со времени их совместного путешествия по Южной Каролине, описанного в книге. Поэт вдруг «взял сентиментальную ноту» и посетовал, что ему на Западе поначалу было непросто. Месяц, перебравшийся в США на двадцать лет позже собеседника, откликнулся на откровение просьбой усыновить его: дескать, ему тоже одиноко на чужбине, он «покинул Святую Русь, вышел за пределы родной речи и ментальности» ради того, чтобы быть рядом со своим кумиром.
Бродский долго отнекивался, ссылаясь на наличие у Месяца родного отца, но сдался под давлением расхожего аргумента «Мы в ответе за тех, кого приручили». Он в свое время действительно высоко оценил дарование Вадима («будучи 25-летним гением», тот отправил свои стихи из Екатеринбурга «50-летнему гению в Нью-Йорк», и они понравились последнему, «как мало что в жизни нравилось»). Тем не менее Иосиф Александрович дал согласие лишь на дальнюю степень родства — быть для Месяца, «авантюриста, энтузиаста и ужасного человека», дядькой. Помолчал, катая языком конфетку во рту, а затем явил милость: «Можете звать меня Дядя Джо».
Пусть ни в какую Южную Каролину реальные автор и поэт вместе не ездили, невозможно подвергнуть сомнению достоверность этого уговора, настолько мастерски в романе выстроена речевая характеристика одного из двух главных персонажей. Это тем более удивительно, что «приблатненную и смачную» речь Бродского, по словам автора, передать невозможно: «В интервью он был деликатен, но с друзьями общался на облагороженной лагерной фене».
Месяц не утруждает себя описанием внешности «божества»: в книге нет особенностей физиономии, фигуры, жестов, мимики, манеры двигаться и одеваться. Автору достаточно лексической и синтаксической выразительности в передаче речевой манеры Бродского, чтобы сделать зримыми «гримасу уксусной астенической мудрости, сдобренной древним скорбным юмором» и «яркие, лютой дерзости, глаза» (отмеченные в воспоминаниях Юрия Милославского).
«Светская, безжалостная, циничная» сторона натуры Бродского не страшит Месяца, а, наоборот, манит как проявление «мировой молодящей злости». Его герой показан равным по свободе суждения собеседником Дяди Джо.
Месяц приехал в Нью-Йорк, вдохновившись примером поэта-диссидента, но при этом сознавал себя Ломоносовым, прибывшим покорять столицу уже почти что глобального мира во славу России. Потому он чувствовал себя в Штатах не изгнанником, которому бросался на плечи «век-волкодав», а вольным переселенцем типа своего прадеда, переехавшего с Донбасса на Кузбасс. Автобиографический герой Месяца — эмигрант нового типа, без душевных мук и метаний; он нещадно глушит в себе любые комплексы, ведущие к расщеплению сознания. Если и нуждается в покровительстве Бродского, то только в моральном.
За ним, несомненно, маячит тень Эдуарда Лимонова. Но не густая — легкая. Месяц также называет своего героя собственным именем; подобно Эдичке, по-эксгибиционистски честен, но без надрыва и падения в бездны; принципиально откровенен в описании подвигов бражничества и сексуальной жизни, не стесненной обывательскими нормами. Он тоже страдает от одиночества и переживает разочарование в «стране безграничных возможностей», но грусть его светла, едва уловима. Интонации Месяца лишены цинизма, но по-лимоновски самоироничны и исполнены нахальной бравады.
 Вадим Месяц
Вадим Месяц
Оказавшись в Нью-Йорке, он не ищет работу, а выбирает то, что предложат «американские дедушки». Ветераны холодной войны, высокопробные технари, магнаты военно-промышленного комплекса с радостью помогали Месяцу, потому что уважали его отца — выдающегося советского физика. Сначала они пристроили Месяца преподавателем в колледж, в чудном городке на берегу Гудзона, потом — в бизнес, который, принес ему кучу денег.
В литературе Месяц опять-таки беззаботно и играючи делает собственную судьбу. Ему легко удаются и лирические стихи, и рассказы, и песни. Все это переводится на английский язык и публикуется в США, приносит денежные премии. Российские издания в девяностые берут его вирши и статьи с лету.
Многочисленные сравнения с Дядей Джо повествователь предсказуемо совершает в свою пользу. Вот несколько примеров.
Впервые увидев подборку стихотворений мэтра в журнале «Огонек», Месяц «скривился» от «отстраненных интонаций, где скепсис мешается с горечью», — сам он искал в стихах «живой, искрящейся фактуры» и «выхода за пределы бытового сознания».
Бродский писал Брежневу дважды: в первом письме выступил за отмену смертной казни Кузнецову и Дымшицу, пытавшимся угнать самолет; во втором, «прощальном», просил оставить ему место в русской литературе и позаботиться о родителях. Месяц за место в литературе не волновался, так как не принимал ее всерьез в нынешнем виде (она, по его разумению, должна быть частью государственной милитаристской машины), а потому в своем письме Ельцину, придуманном в подражание Бродскому, просил возродить «империю, за которую пролиты тонны русской крови»; после событий 1993 года написал второе письмо, обвинив президента в алкоголизме и сдаче страны «на растерзание перекупщикам и ворам».
Бродский считал классическую американскую поэзию XX века равной русской. Месяц был уверен, что óрганом, позволяющим писать стихи, американцы обделены: у них другая система мышления — это идеалисты, обуреваемые подростковыми идеями; за их поверхностным любопытством скрываются самодовольство и пустота.
Бродский тянулся к общению со знаменитостями, а Месяца радовали все, кого Бог пошлет: полукриминальные элементы из России в Нью-Йорке казались ему тем самым русским народом, который так долго искали народовольцы и потом уничтожали большевики.
Дяде Джо нравилось открыто делать карьеру, позиционировать себя в качестве великого русского стихотворца и гражданина США. Месяц же быстро понял, что попал в очередной «совок». «Совок», по его мнению, — это машинальность мышления, единомыслие и стадный инстинкт.
Манхеттен 1994 года для Вадима представляли американские авангардисты, благодаря которым он осознал: поэзия — это не то, о чем пишут в газетах и говорят по телевизору, а живой процесс, общение, взаимодействие. Однако, когда Месяц перечислил несколько имен из оглавления антологии американской поэзии, составленной Элиотом Вайнбергером, Бродский «ушел в глухой отказ»: «Нет такой антологии. И поэтов этих не существует».
Дядя Джо заучивал чужие тексты наизусть и «становился духовно богаче». Месяц своих стихов не помнил, чужие тоже знал плохо, предпочитая быть пустым, как барабан: «Природа пустоты не терпит и обязательно подбросит что-нибудь в опустошенный мозг».
Вместе с тем в романе немало свидетельств очарованности «невыдуманным величием» Бродского. Во-первых, поначалу «скривившись», Месяц затем привык к его интонациям и полюбил их, даже написал несколько стихотворений в подражание. Далее, в «Дяде Джо» постоянно подчеркивается, как много значил для автора «старший собеседник»: он обращался к Бродскому как к одному из немногих, кто мог «врубиться в его творчество»; именно с Дядей Джо он мог смеяться над теми, кто, получив известность волей случая, при средних способностях, умел напустить на себя удивительную важность. Наконец, он не подвергал сомнению искренность нобелевской речи, в которой Бродский говорил, что получает награду и за Цветаеву, Мандельштама и Ахматову.
 Бродский возле своего дома на Morton Street 44
Бродский возле своего дома на Morton Street 44
А как забавна сцена бесцеремонного вторжения автора на Morton Street 44 ранним утром! Бродский даже не позволил незваному пьяному гостю извиниться за доставленное беспокойство, прикрикнув: «Прекратите похмельные штучки. Где ваша алкоголическая гордость? Нажрались так нажрались. Повод был. Подтверждаю». Действительно, Месяц жаждал получить отклик мэтра на свое новое стихотворение «На бедре белого великана», а это было для Иосифа Александровича веским оправданием хулиганской выходки.
«Лейтенант неба» и «сибирский чалдон» обычно созванивались по телефону, когда скапливалось достаточно сплетен — слухи о приключениях «племянника» доходили до Дяди Джо исправно:
— Таааак. Ефимова вас отвергла, и вы решили приударить за Джулией Робертс. Такое может прийти только в голову большого оригинала.
— Мы по-разному смотрим на жизнь, Иосиф Александрович. Надо изменить систему координат. Взять другую точку сборки. Все эти планки, градации, звания — для недоумков.
— Может, для начала немного протрезветь?
— Вы и об этом наслышаны?
— Если вы будете так пить, ничего не добьетесь. Останетесь каким-нибудь Леонидом Губановым. — Потом ехидно добавил: — Стихов по причине несчастной любви написали много?
— Я вообще не пишу таких стихов.
— А как же самовыражение?
— Мандельштам говорит, что оно — злейший враг поэзии.
— Мало ли что он говорит. Когда пишешь от себя напрямую — пробивает лучше. Вообще не надо никого слушаться. Прислушиваться можно, а слушаться не надо.
— Вы провели со мной воспитательную беседу? — спросил я с иронией.
— Да ну вас. Делайте, что хотите.
Может сложиться впечатление, что Месяц движим исключительно желанием запечатлеть себя в со-бытии с великим Бродским и во времени и пространстве с другими замечательными людьми, проживавшими в Нью-Йорке в начале 90-х. Среди них Эрнст Неизвестный, Петр Вайль, Владимир Гандельсман, Константин Кузьминский, Евгений Евтушенко, Михаил Шемякин, Алексей Парщиков. Список можно длить бесконечно за счет имен деятелей культуры ельцинского призыва, приезжавших в Хобокен на поэтические фестивали, организованные Месяцем. В содружестве с Эдвардом Фостером он переводил на английский язык стихи Дмитрия Пригова, Аркадия Драгомощенко, Ивана Жданова, Александра Еременко, Елены Шварц, Нины Искренко; издавал книги и антологии. То есть в течение ряда лет был куратором русско-американских проектов, иначе — занимался удовлетворением амбиций поэтов, поощрял «литературное бесстыдство современников». Эта подвижническая работа предполагала «разнимать драки, таскать пьяных, кормить и поить». Опыт утомительный, но благодатный в качестве фактуры для веселого литературного «доноса».
Вот Курехин, выступая на поэтическом фестивале в Хобоконе, «в качестве фирменного трюка» пролезает на четвереньках под роялем; Драгомощенко на ступеньках подъездного трапа окунает голову в старый желтый портфель и выныривает из «портфельной норы» с выражением отчаяния на лице; возбужденный Пригов играется с крысой, целует ее и сюсюкает, побивая «все рекорды толерантности»; Жданов ударяет Курицына, «изобретателя русского постмодернизма», кружкой по голове — «За правду. За настоящую литературу»; Гандельсман пользуется большим полотенцем «по науке»: центральной частью вытирает тело, нижними уголками — ноги, а двумя верхними — волосы и бороду...
Однако, затевая «роман с Бродским», Месяц все же в первую очередь «хотел завраться, просто увраться». Ему было мало разговора по телефону с Ельциным и имитации документов — пары интервью газетам и писем президенту России. Он ввел в роман фантастическое допущение — Бенджамина Крюгера, на лицо менее ужасного, чем известный персонаж с такой же фамилией из фильмов ужасов, без перчатки с острыми металлическими лезвиями на кончиках пальцев, однако способного наводить страх и смятение на поэтов. Его Крюгер — американский биофизик, проводивший когда-то эксперименты по чтению чужих мыслей на Лонг-Айленде. Ему якобы удалось изобрести прибор, позволяющий улавливать в «ноосфере» стихи лучших поэтов земли, не только существующие, но и пребывающие на стадии субвокализации — проборматывания замысла. (Модель ноосферы, считает автор, очень удобна для понимания вещей.) Будучи предприимчивым человеком, Крюгер собрал хороший архив поэтических звукозаписей и получил авторские права на множество неопубликованных стихов, в том числе... Иосифа Бродского. Вот автору и пришлось спасать «цветастую херню», называемую русской поэзией, а заодно и репутацию любимого наставника, от «самого страшного Дантеса».
Как видим, интрига романа типическая: супермен спасает людей от зла. Именно типичность, согласно Полю Рикёру, позволяет интриге уподобиться метафоре в деле синтеза разнородного. Поэтому в компании с вымышленным Крюгером реальный Бродский воспринимается на удивление достоверно. Его отповедь наглецу — «Вы наиболее идиотский идиот» — звучит весьма убедительно.
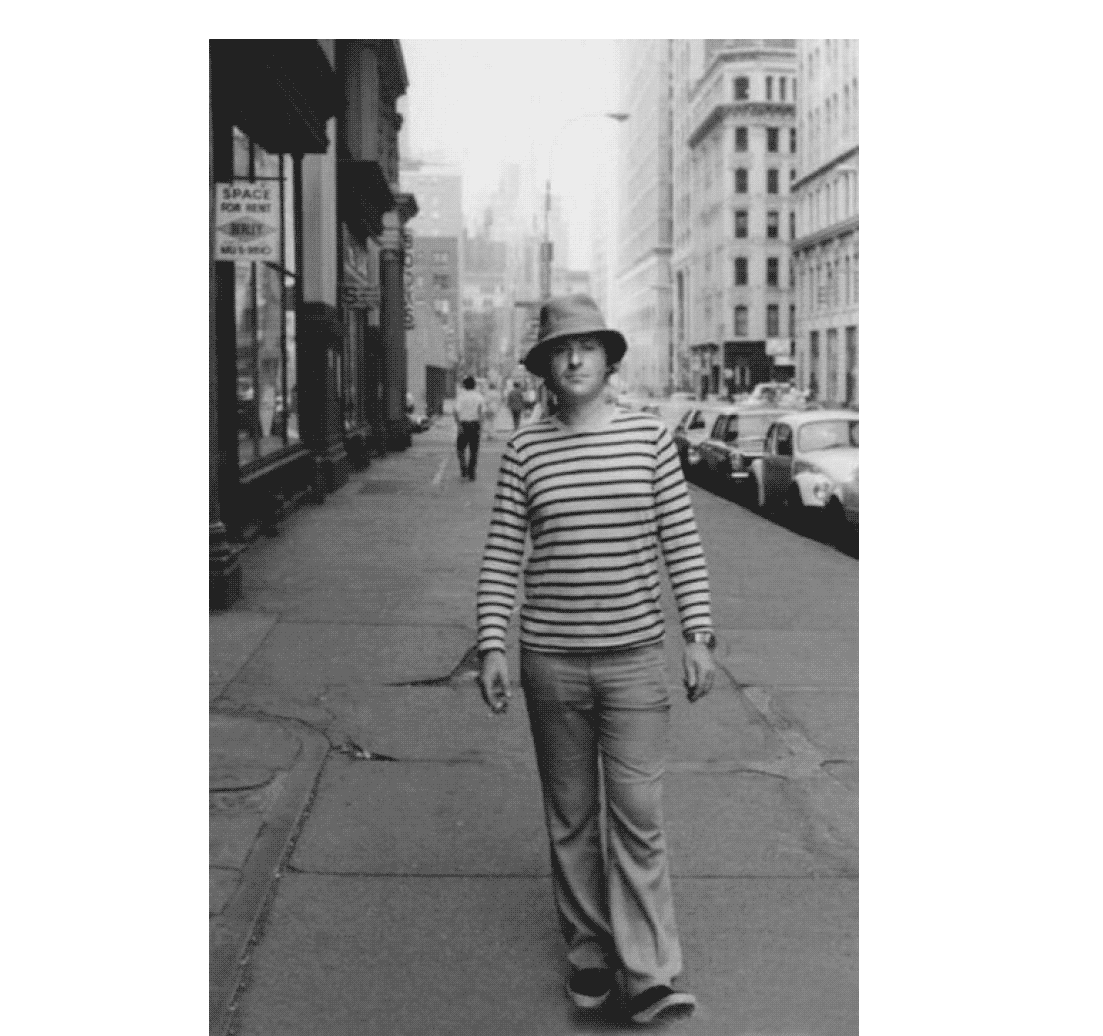 Бродский в Нью-Йорке. 1977 год
Бродский в Нью-Йорке. 1977 год
Иногда автор называет Крюгера уменьшительно-ласкательно — Беня. И тогда устрашающий персонаж — высокий рыжий бородач в капюшоне, похожий на капитана пиратского судна, — становится мерцающим, весело подмигивающим. Беня впервые появляется в восьмой главе, во время экскурсионного посещения поэтами Центральной тюрьмы штата Южная Каролина, основанной в 1867 году, и пугает Бродского, протягивая ему телефонный справочник, — набрав любой номер, можно услышать все стихи на свете, в том числе и те, которые нобелевский лауреат считает своими... А на самом деле стихи существуют еще до их написания: лучший поэт — это медиум, способный вычленить их из общего человеческого шума. «Вам, Иосиф Александрович, не мешало бы знать об этом в конце творческого пути», — Крюгер зловеще предрекает скорую смерть Бродскому, а вместе с ним — и антропологическому типу поэта.
Закат современной поэзии — одна из основных идей романа. Ноосфера «крайне замусорена всяческим поэтическим хламом», считает Месяц: «От всеобщей грамотности люди пишут все больше, а от тлетворного влияния равенства и демократии — все хуже. Каждый придурок пишет в соответствии со своим эгоизмом, не задумываясь об общем речевом пространстве. Между тем пространство это давно пора оставить в покое. Количества стихов, способных утешить, исцелить или взбодрить, написано предостаточно». Месяц убежден, что в ситуации, когда иерархии устранены, а критерии потеряны, поэты должны не стишки кропать, а научиться изменять мир — «Иначе это занятие бессмысленно».
Помимо хоррора в «Дяде Джо» имеется еще один сюжетный мотор — квест. На протяжении 38 глав герой повествования выясняет имя автора полюбившегося ему стихотворения «Береговушки»: «Дом отступал к реке, как Наутилус, / приборами почуявший январь». Месяц якобы услышал его благодаря справочнику Крюгера, а затем любопытство и язык повели его от одного знатока поэзии к другому, пока он не добрался до самого Евгения Евтушенко. После каждой неудачи в герое крепла уверенность: «история с невероятной скрупулезностью вымывает из памяти народов все самое живое, свежее и необычное». В конце концов Месяц узнает от Константина Кузьминского, составителя знаменитой антологии «У голубой лагуны» (туда должны были войти многочисленные таланты, отвергнутые советской властью), имя автора: им был воронежец Валерий Исаянц — как всякий настоящий талант, не имевший сил на раскрутку.
Как видим, две жесткие авантюрно-детективные линии романа структурируют клочковатую работу авторской памяти и не дают повествователю «растечься мыслью» в формате «записки» — жанре мемуарной литературы, в котором изложение материала зависит не от хронологического течения событий, а от того, как они вспоминаются. Но поступательное движение сюжета все же порой совершает ретроградные петли, делая событийный узор затейливым, тем самым подводя к сравнению романного полотна с яркой деталью внешнего облика Бродского: «Божество было одето в кофту с огромной дырой на груди. Кофта, видимо, зацепилась за какой-то крючок и распустилась».
Таким досадным «крючком» для вязи образов и событий «Дяди Джо» является само название книги. Многие наслышаны об имянаречении будущего лауреата Нобелевской премии Иосифом в честь Сталина, а также знают: «дядюшкой Джо» — Uncle Joe — Черчилль и Рузвельт между собой называли опять-таки Иосифа Виссарионовича. Налицо эффект мерцания, как и в случае с Беней Крюгером.
Сомнений в амбивалентности названия романа быть не может, так как предпоследняя глава называется «Смерть тирана» — в ней автор получает сообщение о смерти Бродского. Причем из уст писателя Юрия Милославского: «Тиран умер». Далее известный мемуарист многозначительно предрекает: «Теперь все будет по-другому. У вас — особенно». Повествователь не сообщает, каким тоном это сказано, и остается догадываться, что недоброжелатель имел в виду: то ли автоматическое продвижение Месяца в поэты «первого ряда», то ли, наоборот, провал в глухую безвестность (в зависимости от того, конкурентом или покровителем, в глазах Милославского, был Бродский для адресата известия). Читателям остается лишь присоединиться к недоуменной реплике Месяца: «Какая странная формулировка».