С зайцем против большой кучи
О книге «Экологическая поэтика Андрея Платонова. Рассказы конца 1930–1940-х»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Алекс Трастрам Томас. Экологическая поэтика Андрея Платонова. Рассказы конца 1930–1940-х. М.: Common Place, 2023. Перевод с английского М. Мушинской, послесловие Е. Кучинова. Содержание. Фрагмент
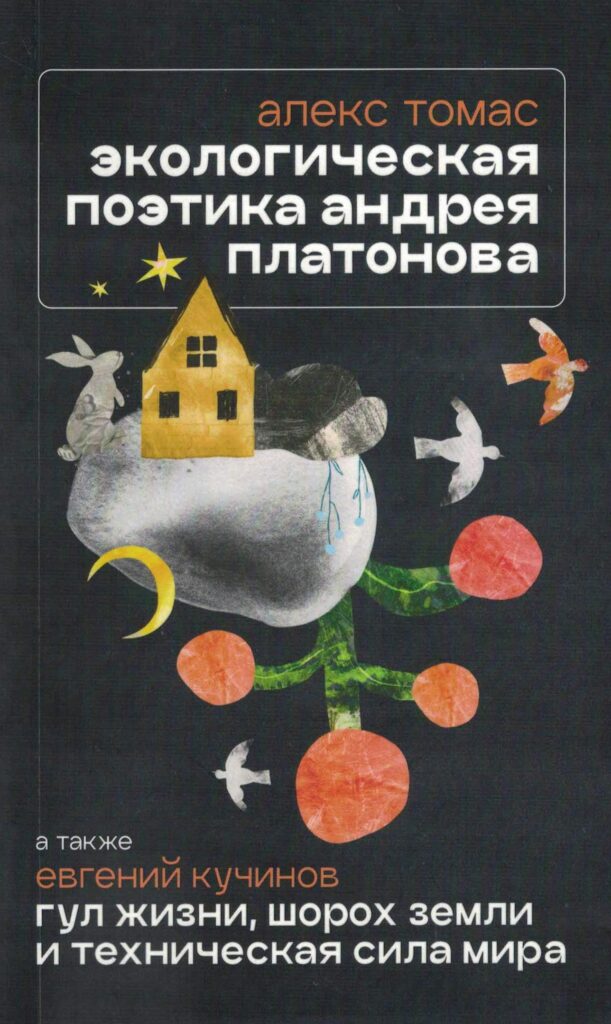 Расхожий, что не значит достоверный, способ представления творческого пути Андрея Платонова — это история одного поражения. История о том, как утопические мечты налетели на реальность, аннигилировали, а сироту Настю закопали в котлован. Яркая сюжетная линия в этой истории касается того, как эволюционировали взгляды писателя на природу. На смену пылкой грезе о человеке, покоряющем землю при помощи послушных машин, приходит предрассветное понимание того, что мир «давит нас в ответ с равнозначной силой», «диалектика природы» неотменима, а мы сами внутри собственной души отстаем от «высоты исторического», то есть недостойны собственных грез.
Расхожий, что не значит достоверный, способ представления творческого пути Андрея Платонова — это история одного поражения. История о том, как утопические мечты налетели на реальность, аннигилировали, а сироту Настю закопали в котлован. Яркая сюжетная линия в этой истории касается того, как эволюционировали взгляды писателя на природу. На смену пылкой грезе о человеке, покоряющем землю при помощи послушных машин, приходит предрассветное понимание того, что мир «давит нас в ответ с равнозначной силой», «диалектика природы» неотменима, а мы сами внутри собственной души отстаем от «высоты исторического», то есть недостойны собственных грез.
По мнению многих исследователей, повод для такого понимания можно найти в статье Платонова «О первой социалистической трагедии» (1934) — несколько оборотов из нее я только что процитировал. Именно в ней, как принято считать, наметилось твердое ядро поздних платоновских произведений. Британский исследователь называет эту статью «экологическим манифестом» и вплетает в сюжетную линию свой обертон: именно тогда, в середине 1930-х, Платонов прекращает прометеанистскую борьбу с природой и начинает с ней примиряться. В небольшой книге, выросшей из магистерской диссертации, Томас пытается показать, что позднее творчество Платонова изобилует экологическими — в самом современном понимании этого слова — мотивами, а сам писатель — предтеча постгуманизма.
В центре сочинения лежит рассказ «Среди животных и растений» (1936). Его история такова: после успеха рассказа «Бессмертие», написанного после встречи с начальником железнодорожной станции в Красном Лимане, Платонову срочно дали новый заказ. Писатель поехал в карельскую глушь, чтобы написать об Иване Алексеевиче Федорове со станции Медвежья Гора (на тот момент «столицы» лагерей, где заключенные строили Беломорканал). Федорова наградили орденом Красной Звезды за то, что ценой собственного увечья он остановил железнодорожную платформу, угрожавшую задавить людей. По Томасу, Платонов вписывает жизнь Федорова в двухтактную структуру: поначалу герой как бы выходит из леса, попадая через дом-избу в мир техники и города, потом, пережив травму и разочарование, возвращается домой, а затем — в лоно природы, чтобы «искать отца среди животных и растений». «Временное увлечение „прелестью“ современного города с его технократической культурой сменяется окончательным признанием внешней и внутренней ценности нечеловеческого мира природы», — говорит Томас.
В стройном на первый взгляд изложении британца есть, однако, фундаментальная натяжка, и она связана не с тем, что идеи Платонова плохо вписываются в принципы постантропоцентризма, но, напротив, с тем, что писатель идет значительно дальше и мыслит куда радикальнее, чем это видится Томасу.
С основным набором наблюдений автора не хочется спорить. Действительно, Платонов в своей поэтике целенаправленно размывает границы между человеческим и нечеловеческим мирами — это откровение доступно любому, кто его книги в принципе открывал. Действительно, в его поздних произведениях жизнь течет поверх этих границ свободно — и поэтому трудно отрицать, что нечеловеки обладают в платоновской перспективе внутренней автономной ценностью. Эту ценность Томас с помощью Адорно определяет как непознаваемую нетождественность: «Используя концепции непостижимости природы как нечеловеческого Другого и „возвышенного“ — остатка, возникающего при любой попытке концептуализировать это Другое, мы увидим, как в прозе Платонова нечеловеческое живое вещество образует единое целое с человеческим — гигантскую сетку, называемую биосферой».
Но странности начинаются почти сразу. Доказывая, что Платонов чужд антропоморфизма (читай, неэгалитарного подтягивания животных до уровня человека), Томас раскладывает по разным категориям чрезвычайно похожие случаи. Когда Иван, увидев в муравьях кулаков-эксплуататоров, их топчет, — это «приступ агрессии из-за ассоциации нечеловеческого мира с человеческим». Но, когда в соседнем абзаце железнодорожник замечает зайца, который сидит «почти по-человечьи», — это «не антропоморфизация, а способ представления всякой жизни частью неразделимого континуума, где все обладает сходными свойствами и опытом». Чуть далее Томас характеризует слова мальчика Никиты из одноименного рассказа («Везде есть люди, только кажутся они не людьми») как «яркую формулировку экологического дискурса», предлагая еще один вариант категоризации для того, что во всех трех случаях трудно определить иначе как буквальное расширение сферы человеческого.
Не менее серьезные проблемы возникают, когда исследователь противопоставляет технокультуру и нечеловеческий мир природы. Это противопоставление сам же автор ставит под сомнение, когда вынужден констатировать всепоглощающую эмпатию Ивана, который говорит о машинах как о сиротах, «которых надо постоянно держать близко своей души».
Или, скажем, пение рельсов: «Луны не было, слабые звезды находились высоко, однако рельсы блестели ясно и далеко, точно они собирали свет изо всей бедности тьмы, из его рассеяния во мраке. Пучков прилег ухом к рельсу и расслышал вечное пение металла — от течения воздуха, от шума дальних листьев и ветвей, заставляющих рельсы напевать в ответ. Рельсы звучали правильно, они были, наверно, целы и здоровы на всем протяжении».
Томас указывает, что перед нами «выход далеко за пределы антропоцентрической эстетики», и добавляет, что «пение рельсов — не иллюзия интерпретирующего человеческого сознания», а потом сообщает следующее: «человек лишь пассивно воспринимает песню, порождаемую воздухом, листьями и ветвями и звучащую независимо от того, слушает ли он; человек не служит посредником в этом диалоге форм материи. Тем самым утверждается внешняя ценность этих форм по отношению друг к другу, не зависящая от людей». Действительно, человек в этой сцене слушает рельсы лишь для себя (подобно тому — см. ниже, — как муравьи для себя волокут от железной дороги стружку), но, как мне кажется, это острее ставит вопрос о том, что же объединяет людей, нечеловеков и машины — объединяет куда более коренным образом, чем эмпатия и «хорошее» неиерархическое описание.
Их объединяет конфликт, растянутый поперек всего мироздания, и конфликт этот имеет откровенно социальное измерение.
Чтобы пояснить эту идею, вернемся к муравьям и зайцу. «Гнусная тварь с кулацким характером — всю жизнь они тащат добро в свое царство, эксплуатируют всех мелких и крупных одиноких животных, с какими только сладят, не знают всемирного интереса и живут ради своего жадного, сосредоточенного благополучия. Сейчас, например, муравьи растаскивали тело старого скончавшегося червя; мало того, что они тлю доят и молоко пьют, они и чужую говядину любят. Однажды охотнику пришлось видеть, как два муравья волокли от железной дороги железную стружку. Им и железо, оказывается, нужно. Они весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча. Охотник потоптал ближайших муравьев и ушел с этого места, чтобы не расстраивать больше своего сердца».
И далее: «Сергей Семенович поднял ружье. Что-то пошевелилось в небольшой, ближней траве. Он прошел туда немного. Там оказался маленький заяц, еще детеныш; он сидел почти по-человечески и быстро жевал травинку, помогая себе передними лапками, потом он утерся теми же лапками и стал часто дышать чистым, здоровым воздухом; он утомился, добывая себе пропитание с малолетства: родители его, должно быть, погибли, и он живет один сиротой. Охотника заяц не замечал или не понимал его значения. Оправившись, заяц скакнул и исчез. Сергей Семенович не убил его: он слишком мал и почти бесполезен для пищи, и жалко его, потому что он еще ребенок, а уже труженик. Пускай подышит».
Из этих фрагментов, процитированных чуть шире, чем их приводит Томас, очевидно, что Платонов не только и не столько размывает границы между человеческим и нечеловеческим, сколько проводит поверх них границу иного сорта. Эта странно-социальная граница связана с проблемой производительных сил, которая принимает в случае животных форму борьбы за пропитание, а в случае людей — мучительного преображения мира. Иными словами, не апологию реинкарнации в духе традиционного буддизма и не децентрацию человеческого субъекта мы находим в платоновских текстах, но констатацию того, что весь мир сведен судорогой общего и целенаправленного страдания-перерождения.
К схожей версии склоняется философ Евгений Кучинов в послесловии к тексту Томаса — надеюсь, оно вырастет в отдельную книгу: «Если мы предположим, что две половины производительных сил (средства производства и люди) присутствуют не только в человеческом, но и в нечеловеческом мире, то тексты Платонова щедро отзовутся на это предположение, рисуя многолюдные миры нечеловеческого, в которых электричество является природным пролетариатом, растения и насекомые — святыми тружениками, а электроны пользуются техническими объектами, борются, усложняются, вступают в связи и поют песни». Философ идет еще дальше, утверждая, что, когда Платонов призывает бороться с природой, он делает это из любви и особым образом: бороться нужно с чем-то внутри природы, выступая при это вместе с нею заодно. «Такое любовное отношение можно описать через отношение одностороннего различения: человек отличается от природы, но не наоборот. Мир отличается от земли, но земля не отличается от мира».
Вот это уже кое-что интересное. Это как будто проясняет отношения людей и нечеловеков в мире, по Платонову. Преодоление косности материи предполагает ее оживление, а оживление — открытие в ней способности страдать. Именно как включение в страдание и следует понимать то буквальное расширение сферы человеческого, которое Томас путает с антропоморфизмом. Наконец, Кучинов ставит под вопрос попытку приравнять творческую эволюцию Платонова к двухтактной судьбе Ивана Федорова, который сначала отпал от природы, а потом все понял и снова к ней приник. Нет, говорит автор послесловия, в 1930-х, идя через манифест «О первой социалистической трагедии», писатель доводит мотивы борьбы и оживления — через страдание — до максимальной конкретики.
И чтобы эту конкретику понять, нам придется разобраться в роли машин. Обратившись к тому же фрагменту, где Иван видит в машинах сирот, которых следует держать близ своей души, Кучинов смещает акцент с «души» на «сирот», на прозрение, что машины тоже по-своему несут «муки мира». Эти муки суть труд преображения материи, который «есть не что иное, как работа одушевления, которая противопоставляется Платоновым воображаемому одушевлению анимизма». Нечеловеческие существа, техника и человек оказываются в такой перспективе союзниками в войне против вселенской косности.
Дабы не отклоняться от русла экологической мысли, я поясню этот тезис с помощью известной идеи Бруно Латура. Согласно его наблюдению, социальная жизнь животных отличается от социальной жизни людей всего лишь одним — степенью и качеством сложности. В обезьяньем коллективе социальность присутствует в виде развернутой, распакованной сложности (complexity). Взаимодействия между индивидуумами ничем не опосредованы, и каждый акт содержит в себе всю (достаточно нехитрую) информацию об акторе. Иначе устроена социальность людей: в ней невероятное разнообразие отношений существует в свернутом, упакованном виде (complication), что позволяет строить гораздо более сложные конструкции. Упаковку производит техника: в ней социальные отношения «осаждаются», опосредуются — но не идеально, со своеобразной притиркой, поскольку у машин, этих срединных сирот мира, есть своя причиняющая сила.
Так мы видим, что для Латура градиент социальности пересекает вселенную, и вопрос экологии заключается не в том, как защитить от плохих машин и глупых людей хорошую и мудрую природу, а в том, как согласовать интересы фигур этой гетерогенной социальности. Но для милитанта Платонова вопрос согласования вторичен. Первично то, что у градиента есть вектор борьбы и он сам пронизан борьбой. Писатель, безусловно, предвосхитил мыслителей антропоцена, но не потому, что провозгласил равную ценность людей, машин и нечеловеков, а потому, что указал: все они заняты на вселенском фронте войны с энтропией, т. е. против превращения мира в одну большую кучу.