Питательная ценность кошки: книги недели
Что спрашивать в книжных
Гийом Аполлинер. Конец Вавилона. СПб.: Лимбус Пресс, 2020. Перевод с французского Михаила Яснова
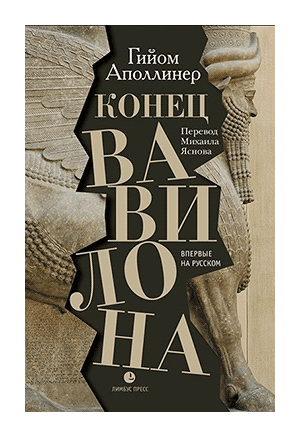 Предтеча сюрреалистов Гийом Аполлинер известен в России главным образом стихами, хотя прозаических произведений у него немало и относился он к ним крайне серьезно. Первое русское издание романа «Конец Вавилона» несколько восполняет эту лакуну. По жанру перед нами псевдоисторический текст, где героями предзакатных событий эпохи древнего Вавилона оказываются друзья и знакомые Аполлинера по художественной тусовке предвоенной Франции.
Предтеча сюрреалистов Гийом Аполлинер известен в России главным образом стихами, хотя прозаических произведений у него немало и относился он к ним крайне серьезно. Первое русское издание романа «Конец Вавилона» несколько восполняет эту лакуну. По жанру перед нами псевдоисторический текст, где героями предзакатных событий эпохи древнего Вавилона оказываются друзья и знакомые Аполлинера по художественной тусовке предвоенной Франции.
Роман дышит ощущением неминуемых радикальных трансформаций. Чувственность этого произведения, очевидно, должна была казаться скандальной для современников, а на современных читателей оно скорее производит впечатление некоторой экзотики. Для тех, кто привык к энигматическим стихам модерниста, это произведение может показаться несколько неожиданным.
Русскую версию «Конца Вавилона» подготовил выдающийся поэт и переводчик Михаил Яснов. Михаил Давидович скончался в октябре это года, и фактически этот роман стал его последней работой.
«Во время трапезы, когда легкие кипрские и сирийские вина развязали языки, Виетрикс выразил свою тревогу относительно той пресловутой свастики, от которой в некотором роде зависела его судьба. <...>
— Иначе говоря, — со смехом подхватил Поладамастор, — этим знаком отмечены все женщины! <...>
— А я вот бы скорей подумал, — откликнулся Ди-Сор, — что свастика изображает скелет петуха.
— Петуха?! — отвечал Виетрикс. — Так уж не ошибся ли я, отправившись в такую даль искать разгадку? Ведь петух — священное животное моей собственной страны...»
Стюарт Рассел. Совместимость. Как контролировать искусственный интеллект. М.: Альпина-нон фикшн, 2021. Перевод с английского Натальи Кияченко
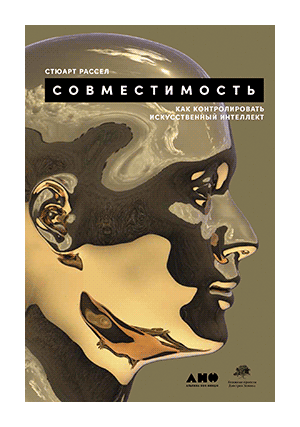 Профессор теории вычислительных машин и систем Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел руководит Центром человекосовместимого искусственного интеллекта. Термин «человекосовместимость» присутствует и в английском названии этой книги, от которого в русском традиционно оставлен загадочный огрызок.
Профессор теории вычислительных машин и систем Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел руководит Центром человекосовместимого искусственного интеллекта. Термин «человекосовместимость» присутствует и в английском названии этой книги, от которого в русском традиционно оставлен загадочный огрызок.
О какой совместимости речь?
Рассел исходит из того, что массовая тревога имеет под собой почву: развитие искусственного интеллекта вполне может пойти по сценарию «Матрицы», «Терминатора» и прочих произведений, где кожаные ублюдки терпят окончательное поражение от умных машин. Основную проблему исследователь видит в том, что ИИ в XX-XXI веках строится на основе поиска путей «оптимизация поставленной задачи». Поскольку машина может «объективно лучше» знать, как найти оптимальное решение, у нее может — случайно — возникнуть цель, ортогональная цели человеческой.
Противоядие, по Расселу, заключается в том, чтобы на концептуальном уровне предотвратить возникновение у ИИ самостоятельных целей. Для этого необходимо соблюсти по меньшей мере два связанных принципа: машины должны подчиняться одной единственной цели — реализовывать предпочтения человека, относительно которых она должна находиться в состоянии перманентной неопределенности.
Аргументация автора важна и интересна, но, как и в случае с практически любым научпопом из США, от сокращения книга бы не пострадала.
«До сих пор тупость и ограниченность воздействия ИИ-систем защищали нас от этих последствий, но это изменится. Представьте, например, домашнего робота будущего, который должен присматривать за вашими детьми, когда вы задерживаетесь на работе. Дети хотят есть, но холодильник пуст. Тут робот замечает кошку. Увы, робот понимает питательную ценность кошки, но не ее эмоциональную ценность. Проходит несколько часов, мировые СМИ пестрят заголовками о свихнувшихся роботах и жареных кошках, и все производители роботов-домохозяек лишаются рынка сбыта».
Джаред Даймонд. Кризис. Каков механизм преодоления кризиса? М.: АСТ, 2020. Перевод с английского В. Желнинова
 Автор незабвенного хита «Ружья, микробы и сталь», реабилитирующего географический детерминизм, написал книгу о том, как государства переживают системные испытания на прочность. В качестве исследовательских кейсов Даймонд отобрал семь стран по принципу личного знакомства и глубокой погруженности в локальную проблематику (возможно, не слишком убедительный критерий, но допустим). В список вошли США, Япония, Германия, Финляндия, Чили, Индонезия и Австралия; все они перенесли в XX веке суровые кризисы — кто, с другой стороны, в этом столетии их не пережил? — и все нашли свой способ выкарабкаться.
Автор незабвенного хита «Ружья, микробы и сталь», реабилитирующего географический детерминизм, написал книгу о том, как государства переживают системные испытания на прочность. В качестве исследовательских кейсов Даймонд отобрал семь стран по принципу личного знакомства и глубокой погруженности в локальную проблематику (возможно, не слишком убедительный критерий, но допустим). В список вошли США, Япония, Германия, Финляндия, Чили, Индонезия и Австралия; все они перенесли в XX веке суровые кризисы — кто, с другой стороны, в этом столетии их не пережил? — и все нашли свой способ выкарабкаться.
Перед тем как перейти к сжатому историческому разбору — не лишенного странных отклонений вроде разбора грамматики финского языка, — Даймонд выдвигает предположение: факторы, влияющие на адаптацию индивида к психологическим кризисам, можно до некоторой степени транспонировать на судьбы государств. Отсюда — выводы на материале разных стран напоминают конспект психологического пособия: спасшиеся нации смогли признать кризис, принять за него ответственность и не обвинять других, проводили выборочные изменения, стремились заручиться помощью других народов и т. п.
Даже в пересказе это звучит странновато. К тому же Даймонду, который скатывается под конец в либерально-демократические трюизмы, явно не хватает разбора кейсов стран пропащих. Книга не тянет на поворотный труд а ля те же «Ружья», но по меньшей мере она информативна.
«Финское правительство призвало прессу к самоцензуре, чтобы ненароком не обидеть СССР. Другие демократии посчитали эти действия позорными. Но для Финляндии это было именно проявление гибкости мышления: она согласилась пожертвовать „священными” демократическими принципами в той мере, какая требовалась для сохранения политической независимости, „святейшего”, если угодно, среди всех принципов».
Лаймонас Бриедис. Вильнюс. Город странников. М.: Издательский дом ВШЭ, 2020. Перевод с литовского Таисии Орал
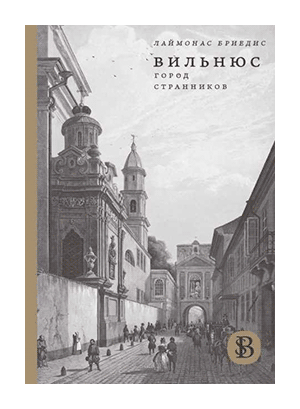 Литовско-канадский историк культур Лаймонас Бриедис выбрал для биографии родного города особый формат: Вильнюс предстает в записках и воспоминаниях значимых путешественников. Вот перед глазами католических миссионеров проходят пышные языческие дубравы княжества, принявшего крещение лишь в конце XIV века. Дипломат фон Герберштейн наблюдает «империю» от Балтики до Черноморья, говорящую на шести языках, включая армянский и иврит. Великая армия Наполеона проносится по Вильну то в одну, то в другую сторону. Достоевский с женой гоняет уличных торговцев в сонном городке российской провинции. А вот Альфред Дёблин приезжает в Вильну в поисках еврейских корней и покидает загадочный город, пережив христианское озарение.
Литовско-канадский историк культур Лаймонас Бриедис выбрал для биографии родного города особый формат: Вильнюс предстает в записках и воспоминаниях значимых путешественников. Вот перед глазами католических миссионеров проходят пышные языческие дубравы княжества, принявшего крещение лишь в конце XIV века. Дипломат фон Герберштейн наблюдает «империю» от Балтики до Черноморья, говорящую на шести языках, включая армянский и иврит. Великая армия Наполеона проносится по Вильну то в одну, то в другую сторону. Достоевский с женой гоняет уличных торговцев в сонном городке российской провинции. А вот Альфред Дёблин приезжает в Вильну в поисках еврейских корней и покидает загадочный город, пережив христианское озарение.
Те, кто ждет от «Города странников» поставщика готовых туристических маршрутов, разочаруются. Здесь об авторах воспоминаний говорится немногим меньше, чем о городе. Скорее книга может послужить гидом по культурным смыслам и помощником в постижении гения места вне потребительских категорий. Уж не знаю, станет ли когда-нибудь опять литовская столица точкой для длинных уик-эндов российских путешественников, но для воображаемых путешествий сочинение Бриедиса стоит рекомендовать.
«Поскольку название города произошло от корня, который также лежит и в основе слов vele (душа умершего) и velnias (черт, дьявол), можно сказать, что оно подразумевает и место перехода в потусторонний мир. Эта аллюзия позволяет увидеть в Вильнюсе аллегорию междумирья, где присутствие душ умерших придает форму утратам».
Александр Стесин. Птицы жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2021
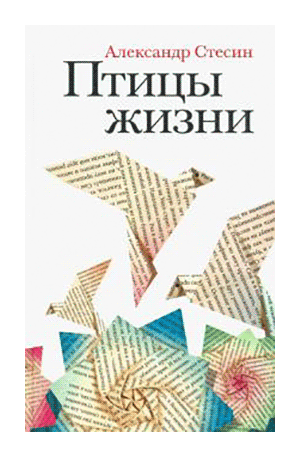 Писатель и врач-онколог Александр Стесин получил премию «НОС» за книгу «Нью-йоркский обход», которую сам автор определил как «смесь травелога с мемуаром на фоне медицинской тематики». «Птицы жизни» — травелог и пунктирная автобиография на фоне тематики куда более широкого размаха: здесь студенческие годы в Америке, и московское детство, и прогулка по мексиканским джунглям, и серия стихов без географической привязки. Тексты связывают не столько «случайные» сюжеты вроде укуса насекомых, сколько и меланхолическая линия рассуждений о том, что в жизни все, конечно, получается, но вовсе не так, как хочется нам.
Писатель и врач-онколог Александр Стесин получил премию «НОС» за книгу «Нью-йоркский обход», которую сам автор определил как «смесь травелога с мемуаром на фоне медицинской тематики». «Птицы жизни» — травелог и пунктирная автобиография на фоне тематики куда более широкого размаха: здесь студенческие годы в Америке, и московское детство, и прогулка по мексиканским джунглям, и серия стихов без географической привязки. Тексты связывают не столько «случайные» сюжеты вроде укуса насекомых, сколько и меланхолическая линия рассуждений о том, что в жизни все, конечно, получается, но вовсе не так, как хочется нам.
Термин life bird англоязычные любители птиц используют, чтобы обозначить первого представителя пернатых, которого им удается увидеть и опознать в дикой природе. Русское множественное число («птицы жизни») задает серийность уникальному переживанию и сообщает нечто об авторской интенции: пересмотреть и перепрожить осколки повседневности, чья безнадежная значимость проступает лишь на расстоянии.
«Человек грубеет, как кожа, и в один прекрасный день, с ужасом обнаружив произошедшую перемену, начинает тешить себя надеждой, что это не навсегда, надо просто заняться собой, привести себя в порядок, вернуться к прежнему „я”. Когда же он свыкнется с мыслью, что вернуться нельзя, память его как бы перерождается, начинает работать по-новому, высвечивая прошлое „я” гораздо отчетливее, чем раньше. Вспоминается какой-нибудь ни к чему не относящийся эпизод, и сознание целиком умещается в этом воспоминании, отбрасывающем свет достоверности на все былое».