Новые зарубежные романы: начало марта
Уильям Голдман, Скарлетт Томас и Джон Бойн
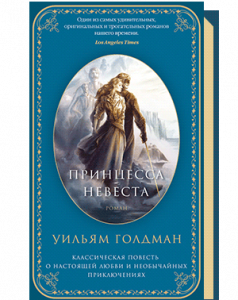
Уильям Голдман. Принцесса-невеста. СПб.: Азбука-Аттикус, 2017. Перевод Анастасии Грызуновой
Роман Уильяма Голдмана «Принцесса-невеста» был написан в 1973 году, фильм по нему с юной Робин Райт, вырвавшейся из «Санта-Барбары» (и еще целой плеядой великолепных актеров под присмотром Роба Райнера) вышел в 1987-м, а русский перевод «Принцессы-невесты» дозрел только сейчас, и, видит Бог, нам нужна была эта книга. Сам автор — на минуточку, сценарист «Марафонца», «Всей президентской рати» и «Степфордских жен» и не последний американский писатель последнего полувека — считал «Принцессу-невесту» лучшим из всего им написанного. И дело тут вовсе не в сюжете, хотя при всей нашей любви к киносказкам 80-х книга, в отличие от фильма, совсем не потускнела в сепию.
Голдман пытается придумать метаисторию, в которой важен не градус читательского удовольствия, не погони, злодеи, колдуны, превращения, а то, как прочитанное влияет на каждого из нас, способен ли мир приключений преобразить жизнь читателя. Поэтому в книге вокруг сюжета о настоящей любви, о зловещем принце, о великане и фехтовальщике, мечтающим отомстить за смерть отца, вырастает целая мифология: якобы все это — старинные хроники некой европейской страны Флорин, где-то в Скандинавии, пересказанных неким Моргенштерном, для которого подлинная история здесь не удивительные приключения красавицы Лютик, а «история короны и прочее в том же духе». И рядом с воображаемым Моргенштерном вырастает полувоображаемый Уильям Голдман, которому рассказывал эту историю его воображаемый отец, а теперь он пересказывает ее сыну и внуку (воображаемым), опуская томительные отступления автора по сорок страниц и оставляя только погони и приключения. Этот пересказ становится здесь мостом между поколениями, спасением из неудавшегося брака и несчастливых отношений с сыном, это та самая история, которую рассказываешь, чтобы выжить, даже если ничего спасительного в ней на первый взгляд нет. Нам, читавшим в детстве Майн Рида, Буссенара и Жюль Верна, не может не быть знакомо это желание очистить приключения от всего наносного, оставить только набор счастливых истин, что справедливость торжествует, а настоящая любовь существует, даже если это не поддается никакой логике, а автор упорно твердит нам обратное.
Предисловия, послесловия, отступления автора внутри самой книги так же необходимы ей, как приключения и погони, ирония так же неотделима от нее, как звериная серьезность. «Принцесса-невеста» не хочет, чтобы мы в нее поверили, но изображает модель мира, в котором эта вера была возможна — все романы Нила Геймана вместе взятые не дадут вам сильнее представления о силе сторителлинга.
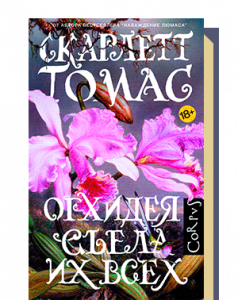
Скарлетт Томас. Орхидея съела их всех. М.: АСТ: Corpus, 2017. Перевод Ирины Филипповой
Английская писательница Скарлетт Томас у нас переводится еще с тех пор, когда в начале нулевых ходила в молодых подающих надежды писательницах. Надо сказать, что надежды эти оправдались — Томас из тех редких авторов, у которых каждый роман получается немножко лучше предыдущего, и все потому что она из того распространенного рода писателей, что всегда пишут об одном и том же. Так и «Наваждение Люмаса» (2006) о путешествиях в других реальностях, и «Наша трагическая Вселенная» (2010) о том, как трудно бывает выбираться из этих воображаемых реальностей и жить в единственной настоящей, оборачиваются в итоге повестями о современном человеке, его растерянности, неумении мириться с собственной жизнью, оторванностью от корней. При этом Томас, мягко говоря, не Байятт, то есть не умная писательница, а умничающая, и героини у нее сплошь мыслят образами своих докторских диссертаций, и сама она все время за уши притаскивает в свои романы вещи, в которых сама не очень понимает: поговорим о квантовой физике? о теории катастроф? о том, что все вокруг так замечательно сложно?
Последний ее роман «Орхидея съела их всех» как раз тем и замечателен, что строится на очень простой метафоре — ботанической. В центре — семейство Гарднер, несколько поколений ботаников с цветочными именами вроде Флер, Лаванда и Бриония. Завязка классическая: семейство собирается делить наследство бабушки, и читателю раскрываются скелеты в шкафах и семейные тайны. Но семейная драма на наших глазах превращается в комментированный гербарий. Томас любит странности, а тут ее героини и герои выстроены прямо-таки в викторианский парад уродов. Роман трещит по швам от сцен жесткого секса, демонстративного потребления (лучшие страницы романа — когда Бриония выбирает между теплым пино нуар и холодненьким шабли, покупает без примерки ботильоны Прада и разом втирает себе в кожу целую банку дорогущего «Крем де ла Мер»), пьянства, жестокостей, супружеских измен, подростковых кризисов. Людей здесь называют ошибкой эволюции, превратившей их из простых растений в «огромное количество сложных организмов, и каждому вместо клочка влажной земли и своевременных порывов ветра подавай дизайнерские наряды, дезодоранты, да чтобы метро работало до глубокой ночи». Но описывая всех персонажей книги как пусть странные, но цветы, Томас дарует им и заодно всему растерянному человечеству надежду на спасение: природа, как известно, не судит.

Джон Бойн. История одиночества. М.: Фантом-пресс, 2017. Перевод Александра Сафронова
Ирландец Джон Бойн — автор, обласканный премиями и переводами, и открывая роман «История одиночества» (2014) в очередной раз убеждаешься, насколько эта слава заслуженна. Бойн почти всегда пишет о «слезинке ребенка», и «История одиночества», в сущности, о том же: главный герой — ирландский священник, закрывающий глаза на трагедии, свидетелем которых становится, будь то в его собственной семье, в жизни его друзей или в католической церкви. Все вокруг, в конечном счете, — это единый «несусветный мир, в котором страдают дети». По сути, «История одиночества» — это обличение любого неучастия, и в этом Бойн, конечно, мастер: перевести стрелки с гигантов на карликов, увидеть в большом сексуальном скандале в католической церкви трагедию маленького человека, чей мир полностью переворачивается. Но с какой же совершенной, нарочито легкой точностью описан этот камерный мир: из разговоров в поезде, где каждый стремится оказать священнику небольшую услугу, трепа в баре, картин сельского, далеко не пасторального детства. Роман Бойна предваряется эпиграфом из Эдварда Моргана Форстера «Жизнь легко описать, но нелегко прожить». Но кажется, что дело обстоит совсем наоборот — жизнь проживается сама собою, но описать эту череду незначительностей так, чтобы была очевидна стоящая за ними катастрофа, может только гений, подобный Бойну.