Не хлам, но винтаж
Конкистадорская Испания в книге историка Фернандо Сервантеса
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Фернандо Сервантес. Конкистадоры. Новая история открытия и завоевания Америки. М.: Альпина, 2024. Перевод с испанского Александра Свистунова. Содержание
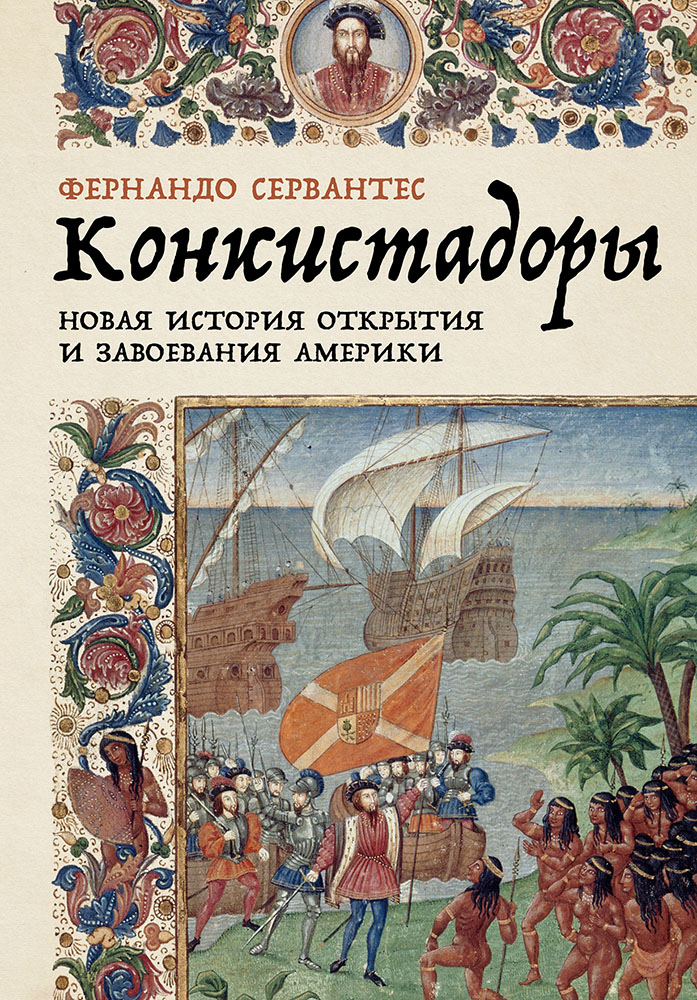 В одном из многочисленных испанских сериалов, затрагивающих тему колоний, одичавший конкистадор спрашивает героиню, прибывшую на поиски мужа: «А вы думали, Новый Свет лучше Старого?» И хотя испанские исторические сериалы — продукт скорее для внутреннего потребления, это симптоматичное замечание перечеркивает пафос всего европейского Просвещения, который говорил «мы наш, мы новый мир построим», на этот раз сделав все правильно, разумно.
В одном из многочисленных испанских сериалов, затрагивающих тему колоний, одичавший конкистадор спрашивает героиню, прибывшую на поиски мужа: «А вы думали, Новый Свет лучше Старого?» И хотя испанские исторические сериалы — продукт скорее для внутреннего потребления, это симптоматичное замечание перечеркивает пафос всего европейского Просвещения, который говорил «мы наш, мы новый мир построим», на этот раз сделав все правильно, разумно.
Не то чтобы испанцы не мечтали о новом (или скорее другом) лучшем мире — еще как мечтали. Однако Вольтер писал Екатерине II, что жители России скорее «увидят свет» Просвещения, чем испанцы, потому что вторые совсем безнадежны. Конечно, эти наблюдения никого не красят, но все же подчеркивают инаковость Испании по отношению к другим колониальным державам. О причудливой природе испанского государства в контексте завоеваний и пишет Фернандо Сервантес в «Конкистадорах».
Едва открыв книгу, читатель узнает, что ее автор — потомок конкистадора. Эта подробность — один из двух фактов, которые знает об авторе русскоязычная Википедия (второй — что он доминиканец-мирянин). Издание позиционируется как «новая история» завоевания Америки с фокусом на так называемой Испанской империи. Деколониальный тренд как будто предполагает, что все колонизации одинаковы, причем за образец берутся более поздние модели — не испанская. Потому что Испанию «отменили» задолго до того, как это стало мейнстримом.
Фернандо Сервантес напоминает, что имидж Испанской «империи» (автор аргументирует, почему называть Испанию раннего Нового времени империей в привычном смысле не вполне корректно) по-прежнему во многом определяет «черная легенда» — «миф, согласно которому в истории Испании нет ничего, кроме жестоких деяний во имя политической реакции и религиозного фанатизма». А испанские Габсбурги вовсе стали первой жертвой массированной пропаганды в ее более-менее современном виде.
Можно сочувствовать «властелинам полумира» не от всего сердца. В конце концов Сервантес неожиданно трепетно сообщает, что «испанские Габсбурги с глубочайшим почтением относились к местным традициям, законам и привилегиям различных частей монархии» (речь про королевства Пиренейского полуострова; вопрос, конечно, насколько велика заслуга представителей австрийской династии в сохранении местной политической традиции).
Но нельзя не заметить, что на испанцах оттоптались все желающие: вспомним Капитанов — чванливых, бахвалящихся и носящих испанский костюм персонажей комедии дель арте, образ Испании в трудах французских философов и даже самих испанцев. В XIX веке политик Фермин-Гонсало Морон писал, что цивилизацию для его родной Испании буквально «создала» Франция. Парижский буржуа Эдуард Мане, приехав в Мадрид, возмущался его провинциальностью (восхищаясь испанской школой живописи). Вспомним злого и мрачного Кортеса в мультфильме «The Road to El Dorado» (опять же, сюжет напоминает вольтерова «Кандида») и свежий скандал вокруг фильма «Эмилия Перес», разразившийся в том числе из-за высказывания французского режиссера Жака Одиара про испанский язык, с его точки зрения — «язык провинциальных стран, развивающихся стран, бедняков и мигрантов». Со стороны выглядит дико, по факту — вполне традиционно.
Словом, испанский характер был (и, кажется, остается) отличным сырьем для развесистой клюквы. А неповоротливость государственной машины в вопросах медиа и пропаганды сделала Испанию «сладким пирожком» для всех, кому был нужен объект демонизации. По этой же причине в эпоху романтизма давно ослабленную Испанию экзотизировали, на этот раз умиляясь Другим. Не сказать, что это была совсем уж игра в одни ворота — исследователи указывают на масштабную полемику между французскими и испанскими сторонниками Просвещения в XVIII веке, однако антииспанский миф традиционно перевешивал.
«Новая история» поначалу задерживается на Старом Свете. Читателю обстоятельно живописуют внутрииспанскую ситуацию эпохи, мы понимаем, что их католическим величествам Изабелле Кастильской и Фердинанду II Арагонскому было сложно — они оказались на историческом разломе между Средневековьем и Новым временем. Время вынесло их на гребень высоченной волны, а они были людьми средневековой Испании. В это переходное время были возможны чудеса: монах-доминиканец, проникнув в покои короля Фердинанда благодаря случайно оставленной открытой двери, произнес пламенную речь в защиту туземцев и впечатлил короля до глубины души. А кастильская корона «никогда не была уверена» в своем праве порабощать коренные народы Нового Света:
«Едва Колумб прислал в Испанию нескольких карибских пленных для продажи в Севилье в качестве рабов, Изабелла тут же обратилась к богословам и юристам за советом по этому поводу; год спустя, следуя их рекомендациям, она приказала отправить всех туземцев туда, откуда их привезли».
Можно пойти дальше и процитировать «Его величеству королю Филиппу IV мемориал» Франсиско де Кеведо-и-Вильегаса: «Заморскому злату у нас грош цена,/ А сыты ль пославшие дань племена?»
Конечно, коренному населению все равно, рефлексируют ли колонизаторы, и нет дела до богословских тонкостей и идеологического обоснования колонизации. Но и повествование Сервантеса разворачивается не только вглубь загадочной испанской души, но и вширь физической географии. В книге много описаний экспедиций, некоторые фрагменты идеально кинематографичны; есть и кровавое месиво, и милота. Эрнану Кортесу пришлось сойти на берег и не участвовать в своей первой экспедиции в Новый Свет, потому что он спрыгнул с балкона севильской дамы, за которой ухаживал, и сильно повредил ногу. А в начале августа 1520 года Кортес, объединившись с тласкальтекскими воинами, беспощадно разграбил Тепеаку: его сторонники обращали в рабство жен и детей тех, кто пал в бою (рабам ставили на щеке клеймо «G», от «guerra» — «война»). После победы туземная часть воинства Кортеса устроила пир с блюдами из человечины.
По мере погружения в «Историю» шум «повестки» затихает и все чаще чувствуешь себя на месте то монархов, то конкистадоров, а иногда и туземцев или миссионеров. Сервантес пишет, как много общего было между ритуалами туземцев и европейской позднесредневековой литургией и что испанцы проявляли феноменальную «литургическую гибкость», не сразу решив, что туземным песням и танцам в литургии все же не место. Помимо оспы испанцы привезли в Новый Свет актуальную в Европе идею о том, что важно верить в Бога искренне, по-настоящему. И туземцы (в идеале) должны были не формально соблюдать обряд, а действительно стать христианами; наверное, этот пыл слишком чужд уставшему постмодернизму, чтобы пытаться его понять.
Как бы отвечая на вопрос об отношении испанцев к туземцам, Сервантес живописует споры пятисотлетней давности. Рождены ли туземцы свободными, или они «рабы по природе»? Эрнана Кортеса искренне трогали «ужасающие страдания», которые он «был вынужден причинять ацтекам против своего желания». Да и вообще, туземцам, работавшим на рудниках пять месяцев, полагался сорокадневный отпуск, выходные в воскресенье и праздники. Правда, один из францисканцев сделал вывод, что сокращение коренного населения Новой Испании к 1540 году на треть было «необходимым очищением». А 21 декабря 1511 года (в четвертый день рождественского поста) доминиканец Антонио де Монтесинос в городе Санто-Доминго обвинял испанцев в том, что они держат подопечных в «жестоком и чудовищном рабстве»: «Разве у них нет души и разума? Разве не должны вы любить их как самих себя? Ужели вам это невдомек? Ужели вам это непонятно? Ужели ваши души погрузились в непробудный сон?»
Миссионеры видели (или хотели видеть) в туземцах идеальную паству, полную «евангельской простоты», которая воспринимала проповедь «с образцовой искренностью». А «некоторые отпрыски знатных семейств проявляли интеллектуальные способности, достойные лучших европейских гуманистов». Благом Сервантес считает и то, что к середине XVI века «монахам удалось переселить большую часть коренного населения Центральной Мексики из разбросанных деревушек в новые города с решетчатой планировкой улиц, организованной вокруг главной площади, где стояла церковь в готическом стиле».
Кажется, основная мысль в том, что, поскольку Испания не была «просвещенной» страной, у нее не было ультимативного плана действий «на земле». Испанское государство жило в винтажной парадигме, где цивилизация равнялась христианизации, и автор не раз говорит об особой (так и хочется сказать — трогательной) рыхлости этой империи, в которой серьезным фактором было прибытие в Новую Испанию в 1524 году двенадцати заряженных кастильских монахов.
Помимо наблюдения за упорным и несколько авантюрным мессианством, реконструкцией экспедиций и ревизией представлений о жестокой имперской власти, Сервантес указывает на юридические тонкости, которые должны объяснить, как это все, наконец, работало. Например, автор упоминает, что в позднесредневековой Испании отношения между правителями и подданными «допускали разные формы сопротивления», в том числе obedezco pero no cumplo — «подчиняюсь, но не выполняю». Чиновник, который должен был исполнить неуместное решение короля, мог произнести эту «ритуальную» формулу, показывая, что он, с одной стороны, слушается короля, с другой — «лучше понимает конкретные обстоятельства». Людям, родившимся в XX веке, трудно понять эти феодальные выверты — велик риск провалиться в романтическое «Средневековье» из XIX века.
Можно и Сервантеса подловить на очарованности предметом — запросто. Но авторы, чувствующие свою миссию, тем и ценны, что их труды, помимо прочего, будто небольшие перформансы. У любого сложного явления есть эта центростремительная сила; в русскоязычных работах, посвященных Испании «золотого века», легко встретить такой же не высказанный прямо восторг от наблюдения за испанским парадоксом. «Новая история» к тому же усложняет базовые представления о контексте завоевания Америки.
В русском переводе из названия книги пропало слово «Испания», и так, возможно, даже лучше. Многие в курсе, что государство Габсбургов XVI века — эдакий феодальный конструктор. Фернандо Сервантес приводит идеи великого канцлера Меркурино Арборио, маркиза Гаттинары: итальянский кардинал «бургундско-пьемонтского происхождения» писал про «истинную вселенскую монархию» и видел себя помощником Карла V.
Император должен был покорить всех неверных, въехать в Иерусалим, подняться на Голгофу, снять корону со своей головы и поставить ее на место, где был распят Христос, и таким образом «преподнести христианский мир Богу-Отцу». Правление Карла V должно было стать «кульминацией христианской истории», а Испания в этом проекте фигурировала постольку, поскольку была «освобожденной древнеримской провинцией», то есть идеальным инструментом для объединения мира.
Вспомним кастильское восстание комунерос 1520–1522 годов и то, что формально Кастилия считала королевой Хуану Безумную, дочь католических королей, до ее смерти в 1555 году — почти все время, пока ее сын Карл V правил безразмерными владениями. И тут окажется, что идеи, феодальные отношения и фактические завоевания лежали будто в разных слоях реальности, а люди, привыкшие к истории национальных государств, рискуют между этими слоями застрять. И ведь есть еще нереальность: скажем, Сервантес рассказывает про ожидания Колумба от первых экспедиций. Первооткрыватель писал: «Земля похожа на круглый мяч, на котором в одном месте наложено нечто вроде соска женской груди. Эта часть <...> наиболее возвышенна и близка к небу». «Сосок» предполагался в районе залива Пария, Колумб был уверен, что рай совсем близко.
Погрузившись в этот лор, к истории до тотального модерна начинаешь относиться как к особо хрупкому предмету. Легко наложить актуальные представления о мире на XV–XVI века и непросто перестать снисходительно думать о «непросвещенных» людях, которые считали, что Земля похожа на женскую грудь, а рай — где-то в районе соска. Образ государства в воображении современного человека наследует государству XX века — централизованному, национальному, агрессивному, рациональному. В то время как «Испанская империя», подобно испанскому искусству, шагнула из Средневековья сразу в барокко (эта тонкая мысль принадлежит искусствоведу Нине Дмитриевой) и была устроена иначе.
Сервантес предлагает увидеть в том устройстве не хлам, но винтаж. Не касаясь дискуссии о том, считать «острое неравенство и почти рабские трудовые отношения» наследием конкистадоров или, напротив, либеральных реформ XIX века, следует выделить главное: важно уметь представлять мир другим, в том числе «донационалистическим». Наверное, только так можно взойти на райский сосок Земли.
В заключении («Переоценка») автор рассуждает об искусстве Диего Веласкеса и подводит к мысли, что у мифа о конкистадорах два лица: мрачное, взращенное «черной легендой», и вдохновенно воспетое романтическое. При этом подходить к испанскому парадоксу, намекает Сервантес, лучше со стороны барокко. На вопрос же, что такое барокко, читателю придется ответить самостоятельно.