Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Вольфганг Киссель. Космос Чехова. Театр, пространство и время. СПб.: Алетейя, 2024. Перевод с немецкого Аллы Койтен. Научная редакция и вступительная статья Ольги Жуковой. Содержание
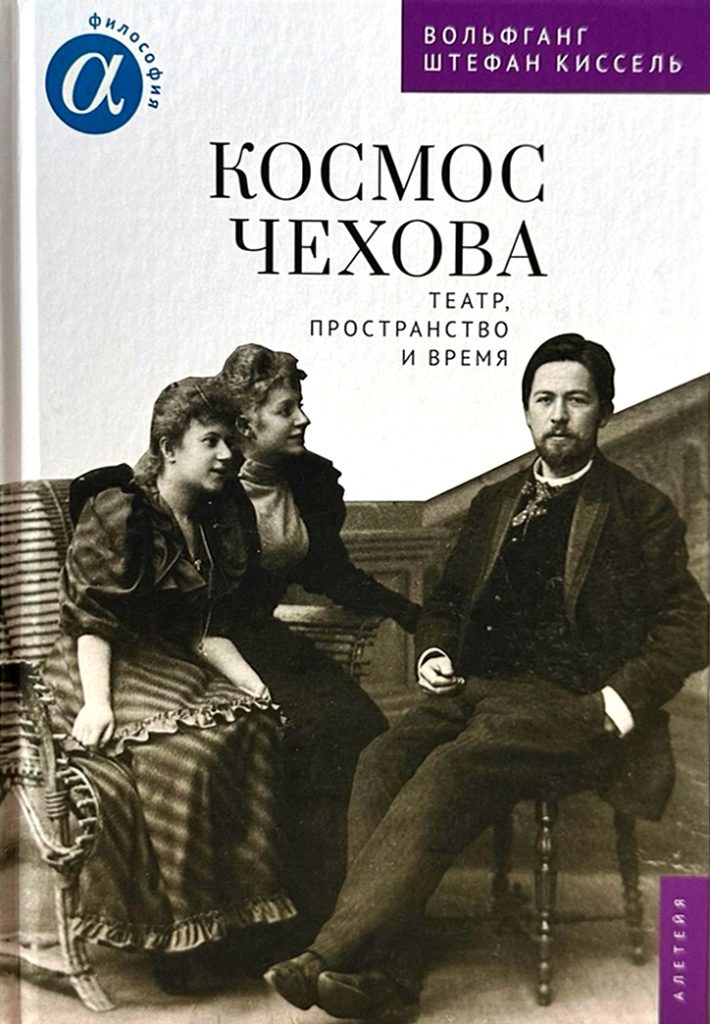 Чеховское творчество — своего рода сфинкс, загадку которого едва ли когда-то удастся в полной мере постигнуть. Его глубина и одновременно сила состоит в том, что оно максимально открыто для интерпретации, представляет собой своеобразную матрицу, которую каждый читатель может наполнить собственным содержанием.
Чеховское творчество — своего рода сфинкс, загадку которого едва ли когда-то удастся в полной мере постигнуть. Его глубина и одновременно сила состоит в том, что оно максимально открыто для интерпретации, представляет собой своеобразную матрицу, которую каждый читатель может наполнить собственным содержанием.
В особенности это применимо к чеховским пьесам, так как драматическая форма сама по себе предлагает больше возможностей для истолкования. Вольфганг Киссель, ученый-славист, профессор Бременского университета и многолетний исследователь творческого наследия Чехова, предложил свою версию разгадки чеховской тайны в монографии «Космос Чехова. Театр, пространство и время», в оригинале вышедшей в 2012 году и вот теперь переведенной на русский язык.
Книга Кисселя — попытка взглянуть на чеховскую драматургию через призму концепции theatrum mundi, или же «мирового театра». Эта идея возникла еще в Античности, к ней периодически обращались средневековые авторы, свою отточенную формулировку она нашла в известных шекспировских словах «Весь мир — театр, а люди в нем — актеры» и, наконец, достигла наивысшей точки в барочной драматургии Кальдерона.
Впрочем, исследование Кисселя не ограничивается рамками исходного тезиса о мировом характере чеховского театра. Ученый пытается выявить в творчестве Чехова некий философский субстрат, по крупицам воссоздавая мировоззрение одного из самых значительных писателей современности, не понятых и доныне. По мысли Кисселя, Чехов — переходная фигура, предвосхитившая многие открытия русского Серебряного века и мирового модернизма, современник эпохи fin de siècle, одним из первых ощутивший стремительно надвигающуюся катастрофу XX века и скорый слом эпох, а также предтеча театра абсурда. Кроме того, ученый отмечает сходство мировидения Чехова с некоторыми постклассическими философскими концепциями, особенно часто обращаясь к философии жизни и одному из ее основных представителей, Анри Бергсону. Киссель делает вывод о том, что наибольшее влияние на Чехова оказала философия стоицизма, а конкретно книга Марка Аврелия «Размышления», к которой писатель неоднократно обращался на протяжении всей своей жизни. Под влиянием стоического учения, полагает он, сформировался уникальный чеховский скептицизм, «не допускающий истинности в последней инстанции и окончательной уверенности».
Однако парадоксальность и сложность Чехова заключается и в особенной противоречивости его мировоззрения. Выпускник медицинского факультета и практикующий врач, Чехов искренне верил в прогресс, жесткую оппозицию которому зачастую составляли представители эпохи модерна. Показательны в этом отношении следующие слова писателя, процитированные Кисселем:
«Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли и когда перестали драть, была страшная».
Эта дихотомия часто выражается и в чеховских драмах, в которых достижения прогресса, а в особенности их апологеты, показаны в весьма неоднозначном ключе (яркие примеры — доктор Астров из «Дяди Вани» или Лопахин из «Вишневого сада»), являют как привлекательные, так и отталкивающие свои стороны. Интересно также, что Киссель не только подходит к чеховской драматургии с философской меркой, но и рассматривает ее с точки зрения того, как на персонажей влияют современные Чехову открытия медицины и другие технические достижения. Например, у героя фарса «Предложение» исследователь диагностирует характерную для той эпохи неврастению, а образ железной дороги, по утверждению Кисселя, является одним из важнейших в поздних драматургических произведениях писателя.
Космос «мирового театра» Чехова, вынесенный в заглавие книги, рассматривается через две фундаментальные категории — пространство и время, восходящие к хрестоматийному хронотопу Михаила Бахтина: «Новый центр образуется у Чехова самим космосом, который создает пространство и время, а последние, в свою очередь, уже непосредственно образуют сцену, на которой играют люди-актеры». Бо́льшая часть исследования Кисселя посвящена тому, как два этих понятия преломляются в текстах чеховских драм.
Анализируя пространство в пьесах Чехова, исследователь приходит к выводу, что оно построено на противопоставлении первичного хронотопа имения, в границах которого происходит действие почти всех главных чеховских драм, и вторичного хронотопа далеких городов, к которым или от которых устремлены мысли многих чеховских героев. По мнению Кисселя, хронотоп «имение с садом» является особенно подходящим для выражения концепции theatrum mundi: «Воспринимать это место как особенно пригодное для театра позволяет, с одной стороны, долгая традиция театральных представлений в имениях, а с другой — его островное местоположение, его характер отдельного мира в мире, предвосхищающий и усиливающий театр в театре».
Категория времени для Кисселя представляет куда больший интерес. Немецкий ученый утверждает, что единое космическое время в чеховской драме раскалывается на время «хронометрическое» и время «субъективное». Хронометрическое, математически исчисляемое время выражено главным образом в навязчивом символе карманных часов, с которыми постоянно сверяются герои пьес. Оно давит на персонажей, напоминает им об их собственной конечности. В противовес хронометрическому, субъективное время, по мнению Кисселя, «теснейшим образом связано с человеческой силой воображения, имагинацией как источником свободы». Эту категорию времени Киссель связывает с философским понятием «длительности», введенным Анри Бергсоном.
Монография Кисселя выстроена по хронологическому принципу, ведет читателя от ранних фарсов к финальным вершинным пьесам. Любопытно, что ученый обращается, в том числе, к не самым популярным в исследовательской среде драматургическим опытам Чехова, анализирует фарсы и водевили 1880-х годов («Лебединая песнь», «Медведь», «Предложение») и уже в них находит мотивы, идеи и ситуации, характерные для зрелой чеховской драматургии. Анализ философской проблематики этих не самых известных читателю (а часто и исследователю) опусов через призму авторской концепции «мирового театра» позволяет по-новому увидеть раннюю драматургию Чехова.
Не ограничиваясь литературоведческим и культурологическим анализом, немецкий ученый обращается и к биографии писателя. Он находит истоки драматургического таланта Чехова в том, что в юности тот часто посещал спектакли таганрогского театра, который, несмотря на свою удаленность от столиц, ставил довольно прогрессивный репертуар и отчасти сформировал вкус и художественный метод будущего драматурга. А корни мировидения Чехова и его неоднозначное отношение к религиозной проблематике, выразившееся в тяготении к агностицизму, Киссель находит в его тяжелом детстве, прошедшем под пагубным влиянием отца, который заставлял будущего писателя и его братьев петь в церковном хоре и периодически поднимал на них руку.
Помимо вышеупомянутых произведений, отдельной главы в книге удостаивается пьеса в одном действии «О вреде табака», на примере которой Киссель препарирует искусство чеховского монолога. Он называет монолог важнейшим речевым жанром чеховских драм и возводит его к «разговору с собой» Марка Аврелия. Действительно, в монологах у Чехова, как правило, проговаривается самое важное, они трансцендируют драматическое действие, возводя его до высот «мирового театра», позволяя спроецировать трагедию того или иного персонажа на весь человеческий род.
Однако возникает вопрос: почему Киссель не берет для анализа пьесу «Иванов»? Конечно, в сравнении с более поздними драматургическими опытами Чехова, «Иванов» не столь проработан и несколько выбивается из общего ряда. Но проблематика этой драмы и ее философский заряд делают «Иванова» интересным объектом для интерпретации мировоззренческой составляющей чеховского творчества, а основные ее мотивы и общий пафос так или иначе вызывают ассоциации с классическими чеховскими пьесами. Странно, что Киссель оставляет без внимания столь масштабное и важное произведение и даже ни разу не упоминает о нем, отдавая предпочтение, помимо очевидных и всем известных текстов, небольшим фарсам. Впрочем, уже то, что ученый всерьез анализирует ранние, обычно не вызывающие исследовательского внимания фарсы и водевили, по-своему вызывает уважение и любопытство.
Книга Вольфганга Кисселя — масштабнейшее по амбициям исследование, которое, несмотря на все свои очевидные достоинства, как кажется, несколько «надрывается», по выражению чеховского Иванова, под грузом затронутых в нем проблем. Основная авторская концепция, связанная с представлением о theatrum mundi Чехова, зачастую отходит на задний план, заслоняется множеством будто бы не согласованных между собой мыслей, подходов и концепций. Каждый по отдельности из разрабатываемых Кисселем тезисов несомненно интересен, однако некоторые из них отнюдь не новы. Представления о влиянии на Чехова постклассической философии и поздней Стои, о чеховском скептицизме и агностицизме разрабатывались рядом отечественных исследователей еще в советское время, правда, возможно, в несколько иной терминологии. Можно вспомнить книгу Владимира Катаева «Проза Чехова: проблемы интерпретации» или классические труды Александра Чудакова «Поэтика Чехова» и «Мир Чехова: Возникновение и утверждение», а также ряд его статей, посвященных чеховскому мировоззрению (самая показательная в этом отношении — «Чехов и вера»). Существуют и более актуальные исследования, затрагивающие ту же тематику, например статьи и монографии Александра Собенникова, Татьяны Зайцевой, Елены Гревцовой. А особенности использования Чеховым речевых жанров были подробнейшим образом раскрыты в книге современного ученого Андрея Степанова «Проблемы коммуникации у Чехова».
Тем не менее специфика взаимодействия пространства и времени, продемонстрированная Кисселем на материале чеховской драматургии, представляется довольно оригинальным открытием, задающим перспективу для дальнейшего исследования творчества Чехова. В то же время глубина философской проблематики чеховских произведений все еще остается, на наш взгляд, недооцененной и ждет новых вдумчивых интерпретаторов.
Стоит также сказать несколько слов о российском издании, которое, увы, пострадало от редакторской или корректорской небрежности. Множество мелких ошибок и описок, в изобилии присутствующие в тексте, кажется тут особенно неуместным — как-никак монография Кисселя представляет собой объемное и сложное литературоведческое исследование с довольно высоким порогом вхождения.
Итак, Киссель не раскрывает и не исчерпывает загадку чеховских пьес, однако он удачно актуализирует ряд ранее затронутых проблем и вводит новые, которые еще только предстоит в полной мере осмыслить и проработать. Подобный подход к творчеству Чехова, несомненно, заслуживает внимания и вполне способен вызвать интерес у читателя.
