«Милый громоздкий чемодан»: почему Чехов так любил путешествовать
Елена Маряхина — о книге Дмитрия Капустина
Дмитрий Капустин. Антон Чехов: путешествия по Азии и Европе. М.: Новый хронограф, 2020. Содержание
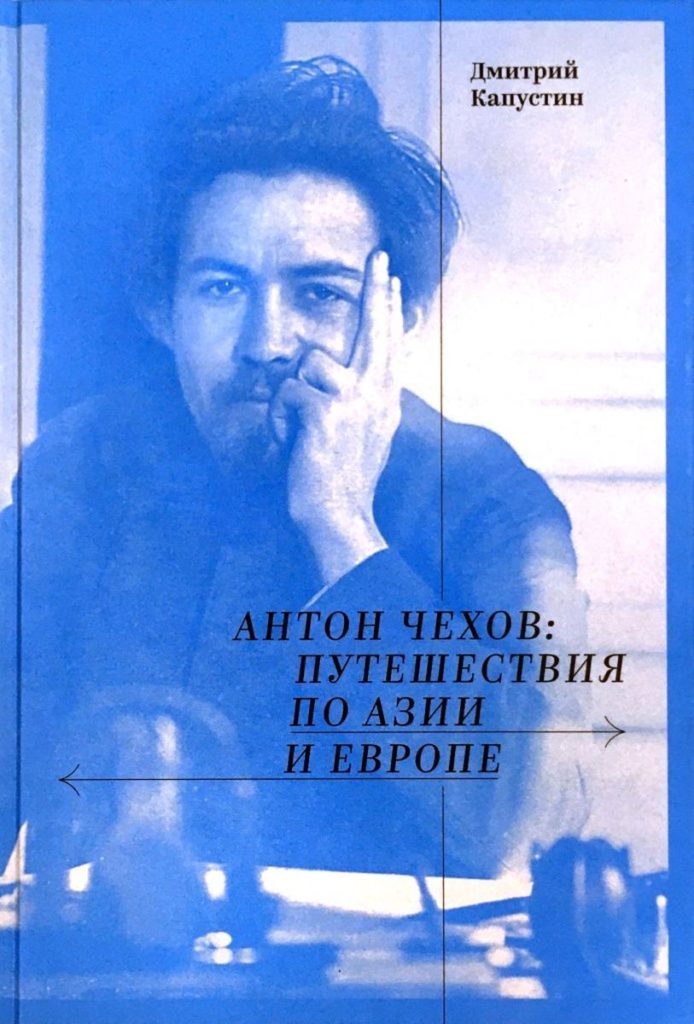 Для одной из начальных глав книги автор бережно подобрал две цитаты из дорожных писем Чехова, в которых в ироническом тоне упоминаются «милое кожаное пальто» да «громоздкий чемодан». Как тут не вспомнить про скидываемые и вновь набрасываемые на плечи бесконечные пальто, хотя бы из последней чеховской пьесы, про развязанные и завязанные дорожные узлы, про образ дороги в творчестве писателя — временами тяжелой, но не сводимой к одним лишь путевым тяготам, дороги как путешествия, источник вдохновения, побуждения к жизни, своего рода сопротивления всему, что, остановившись, умирает в неподвижности. Обращение Дмитрия Капустина к теме путешествий в жизни великого писателя является смелой попыткой собрать воедино цели и смыслы, побуждавшие Чехова, не желающего замечать признаки своего нездоровья, собираться в очередную поездку.
Для одной из начальных глав книги автор бережно подобрал две цитаты из дорожных писем Чехова, в которых в ироническом тоне упоминаются «милое кожаное пальто» да «громоздкий чемодан». Как тут не вспомнить про скидываемые и вновь набрасываемые на плечи бесконечные пальто, хотя бы из последней чеховской пьесы, про развязанные и завязанные дорожные узлы, про образ дороги в творчестве писателя — временами тяжелой, но не сводимой к одним лишь путевым тяготам, дороги как путешествия, источник вдохновения, побуждения к жизни, своего рода сопротивления всему, что, остановившись, умирает в неподвижности. Обращение Дмитрия Капустина к теме путешествий в жизни великого писателя является смелой попыткой собрать воедино цели и смыслы, побуждавшие Чехова, не желающего замечать признаки своего нездоровья, собираться в очередную поездку.
Тема путешествий в жизни Чехова долгое время рассматривалась лишь в рамках отдельных статей, посвященных поездке писателя по Сибири и непосредственно периоду его пребывания на каторжном острове. Впервые хронология путешествий Чехова была составлена Ниной Гитович на основе его писем и записных книжек и вошла в «Летопись жизни и творчества» писателя, вышедшую в 1955 году. Спустя три десятилетия Борис Лищинский опубликовал монографию «Путешествие с Чеховым», посвященную пребыванию писателя в Сибири и на Сахалине и содержащую совсем краткое описание его первой поездки в Европу. Лищинский, рассказывая о чеховском «продолжении подвига Радищева, продолжении его путешествия от Москвы до далеких окраин Родины», обратному пути писателя — с Дальнего Востока до Одессы — уделяет лишь пару страниц. И только в начале XXI века Дмитрий Капустин, историк и специалист по международным отношениям на Дальнем Востоке, опубликовал ряд работ, в которых предложил рассматривать и поездку Чехова по Сибири, и его пребывание на Сахалине в контексте гораздо более масштабного, «большого» путешествия. Изданию «Антон Чехов: путешествия по Азии и Европе» предшествовало «Азиатское путешествие Антона Чехова. 1890 год. В документах, письмах, фотографиях» («Этерна», 2016), вызвавшее критику со стороны отдельных ученых и упреки в недостаточной обоснованности выдвинутой автором гипотезы. Перестраивание канонических представлений о «поездке именно на Сахалин» грозило принизить идею подвижничества, звучавшую еще у Лищинского. Упреки касались и недостаточной деликатности Капустина, включившего в книгу отрывки из писем, содержащие интимные подробности из жизни Чехова и потому даже в собрании сочинений и писем писателя публикуемые с купюрами. «Не стоит лепить воскового Чехова» — так отозвался тогда на критику автор. Каким же предстает образ Чехова в его новой работе? Пожалуй, точно не восковым.
При всей основательности этого исследования его все-таки не назовешь собственно научным трудом. Выдержки из архивных документов, ставшие самой тканью повествования Дмитрия Капустина, позволяют соединить цепь событий с внутренними переживаниями и впечатлениями Чехова, отраженными в его письмах. Эта книга — погружение в атмосферу долгой дороги, культурного, литературного и исторического контекста конца XIX столетия. Поэтому во время чтения «Путешествий» желательно представлять себя не исследователем-чеховедом, пытливо ищущим ссылки на еще не открытые архивные документы, а спутником писателя, любителем странствий, способным понять именно эту его ипостась. Путешествия по Европе, описываемые во второй части книги Капустина, становятся неотъемлемым продолжением «Азиатской „кругосветки”», о которой говорится в первой части. В этих путешествиях обнаруживается присущая Чехову неуемная жажда жизни, боязнь остановиться и умереть, стремление узнать все бытие людей — и в блеске роскошной, изысканной жизни, и на последнем пределе безысходности каторжного существования.
По дороге на Сахалин Чехов пишет в основном «друзьям-тунгусам» (так писатель обращался к родным) и Алексею Суворину. Отчеты о путешествии по Западной Сибири — холода, мучительные переправы на лошадях — сменяются описаниями Восточной Сибири с их поэтическим настроением. Из писем родные узнают о плавании по Шилке и Амуру, рассказах китайца Сон-Люли, жуках-метеорах, светящихся в каюте по вечерам, диких козах, пересекающих реку. В сахалинском «аду» Чехов, давший этому месту именно такое определение, провел три месяца вместо запланированных двух. День за днем писатель не только собирал материалы для книги «Остров Сахалин» — ощущение нестерпимой, безвыходной тоски от увиденного накапливалось в его душе, свидетельством чему стали его письма Суворину. С этим чувством, избыть которое не удастся до конца жизни, Чехов отправляется дальше — туда, где воздух пахнет не человеческим страданием, а морем и тропиками.
Рассказ о морском путешествии на пароходе «Петербург» через Индийский океан и Суэцкий канал, с заходом в Гонконг, Сингапур, Коломбо и Порт-Саид, Капустин выстраивает вокруг вахтенного журнала, обнаруженного в конце 1970-х годов Еленой Дунаевой в ленинградских архивах. В этом документе зафиксированы все события того плавания — от смены курса парохода, перемен направления ветра и количества штормов до похорон, обедов и повседневных мелочей. С фотографий, опубликованных в книге, на читателя смотрят Александр Щербак, тоже врач и писатель, сопровождавший Чехова в течение всего рейса; отец Ираклий, бурят и миссионер; американские китобои с потерпевшей крушение лодки; ссыльно-каторжные, стиснутые тюремной решеткой. Запечатлен и капитан Рудольф Гутан, история жизни которого восстановлена автором по архивам Военно-морского флота. Благодаря многочисленным биографическим подробностям спутники писателя словно бы становятся самостоятельными персонажами повествования Дмитрия Капустина.
Жизнь и смерть на пароходе предстают в несколько смещенном, странном обличии, о чем свидетельствует запись в вахтенном журнале об отпевании и «предании воде тела умершего безсрочно-отпускного рядового» и фотография похорон. Здесь же упомянуты строки из чеховского рассказа «Гусев» о том, что «у моря нет ни смысла, ни жалости», и из письма Суворину о страхе перед тем, «что сам умрешь и будешь брошен в море»: перед Чеховым предстает тонкая грань между существованием и небытием посреди открытого моря, странная, непознаваемая грань человеческого удела.
Будни Гонконга, британской колонии с аккуратными улицами и клубами, а также с китайскими мастерскими и заводами, судовыми доками и железной дорогой, ведущей на гору Виктория, оцениваются Чеховым через призму недавней картины, увиденной на Сахалине. В письме Суворину писатель, по словам Капустина, сравнивает колониальную политику английских властей с тем, «что он увидел на собственной родине — на Сахалине», и отмечает, что эксплуатация в России выглядит «куда уродливей». Другая британская колония, Сингапур, по сравнению с Гонконгом предстает заброшенным углом, где на Чехова находит необъяснимая грусть. Если Борис Лищинский в своей книге связывал период пребывания Чехова на пароходе «Петербург» лишь с тяжелыми впечатлениями, оставшимися от пребывания на каторжном острове, и утверждал, что в результате «у писателя терялась радость встречи с новыми местами», то в книге Дмитрия Капустина говорится, что тягостные чувства охватывали Чехова лишь в отдельные моменты морского путешествия, в частности в Сингапуре, и отнюдь не только в связи с увиденным на Сахалине. Ту же грусть, например, ощущал и Редьярд Киплинг, посетивший обе колонии в 1889 году во время путешествия из Индии в Англию. В цитируемой Капустиным выдержке из книги Киплинга «От моря до моря» описываются, в частности, дешевые застройки, среди которых нет места приезжим гостям, и таких литературно-художественных параллелей в книге немало. Среди них и упоминания о писателе-путешественнике Иване Гончарове — «здоровяке», ориентируясь на которого Чехов безжалостно растрачивал силы, стойко выдерживая и качку во время тайфуна в Китайском море, и тропическую жару во время плавания через Индийский океан в Коломбо.
Из цейлонского «рая» Чехов пишет Суворину письмо, содержащее подробности встречи с «черноглазой индусской (так у Чехова. — Прим. ред.) в кокосовом лесу». Отталкиваясь от этих сведений и изучив сохранившиеся в архивах фотографии с изображением прибрежных ресторанчиков, гостиниц и железной дороги, ведущей в Коломбо, Капустин выдвигает предположение о маршруте следования писателя по этому «раю» и пытается установить, кто же сопровождал его в эти дни. С Цейлона Чехов увез сувениры — искусственных слоников, живых мангустов и идею рассказа «Гусев». В Порт-Саиде, последнем порте захода «Петербурга», Чехов, несмотря на краткое время стоянки, все же успел приобрести несколько фотографий. Под две из них, изображающие молодую задумчивую египтянку и угрюмого уличного менялу, в книге отдан целый разворот.
Путешествия по Европе, в первое из которых Чехов отправляется уже через три месяца после возвращения из «азиатской „кругосветки”», в изложении Дмитрия Капустина напоминают мозаику, составленную из событий внешней и внутренней жизни писателя, в которых раскрывается образ восторженного, азартного человека, целиком отдающегося жизни. В марте-апреле 1891 года Чехов совершает поездку по Европе вместе Сувориным и, прибыв в Венецию, пишет брату Ивану: «...Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни <...> А вечер! Боже ты мой господи! Вечером с непривычки можно умереть. Едешь ты на гондоле... Тепло, тихо, звезды... <...> русскому человеку <...> здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума». Впрочем, в воспоминаниях Мережковского, повстречавшегося с Чеховым в Венеции и упомянутого в том же письме, писатель предстает внешне сдержанным, не проявляющим эмоций и восторгов. Капустин не раз подчеркивает, что «Чехова-писателя привлекали не только красоты природы, шедевры архитектуры и искусства, но и живые люди». Предмет его интереса, как будет вспоминать Мережковский, мог составить «гид с особой лысиной» или «голос продавщицы фиалок на площади св. Марка». И совсем уж не совпадает такой Чехов с образом «утомленного, больного писателя, нуждающегося в солнце, тепле и покое», каким рисовал его Лищинский. Во время поездки на Везувий, как следует из апрельского письма родным, Чехову, стоявшему на краю вулкана, было «очень страшно и притом хотелось прыгнуть вниз в самое жерло». А Монте-Карло манило, как и многих его собратьев по перу, зеленым сукном и одновременно отталкивало вульгарностью материальной роскоши. Капустин на протяжении всей книги то и дело обращает внимание на это соединение в Чехове утонченной сдержанности и обостренного стремления к некоей опасной игре, балансированию на грани между жизнью и смертью.
Во время второго путешествия, предпринятого в сентябре-октябре 1894 года, Чехова тянет посетить старинное кладбище Стальено, знаменитое своими скульптурными композициями. И здесь сквозит мысль о том значении, какое писатель придавал увековечению красоты жизни там, где столь ощутим ее предел. Здесь Капустин, возможно, пытаясь проследить надрывность судьбы самого Чехова, перекидывает мостик к драматичным судьбам тех, с кем писателя связывали сильные чувства, и прежде всего Лики Мизиновой, письма которой, будто перышки отчаянно бьющейся за жизнь чайки, летели к нему в Ниццу из Швейцарии. Но наиболее явно это свойство чеховской натуры — всего себя отдавать жизни — проявилось во время третьей поездки писателя, растянувшейся на целую зиму, с сентября 1897-го по май 1898 года. Большую часть этого времени Чехов провел во Франции, в Ницце, где по причине болезни вынужден был оставаться в Русском пансионе, погрузившись в газеты и работу. Он остро реагировал на события, связанные с делом Дрейфуса, подолгу писал, отправлял в «Русские ведомости» новые рассказы, а тем временем окружающие замечали в его облике истощенность, вызванную духовным и умственным напряжением, признаки горлового кровотечения. Но Чехова влечет в Париж, где по приезде Суворина «жизнь закрутилась еще быстрее — театр, встречи с друзьями и новыми знакомыми, <...> долгие разговоры и дискуссии».
Чем ближе к концу книги, тем настойчивее автор подчеркивает этот сумасшедший ритм внутренней и внешней жизни писателя. Четвертая поездка Чехова в Европу, охватывающая период с декабря 1900-го по февраль 1901 года, проходит в бесконечных делах: волнениях о постановке «Трех сестер» в Художественном театре, встречах со скульптором Марком Антокольским и заказе ему копии скульптуры Петра I для Таганрога, заказе и пересылке в Россию французских книг для иностранного отделения библиотеки. Чехов то сообщает Ольге Книппер о желании вернуться в Россию, то его одолевает мечта о путешествии в Африку, вместо которой он едет в совсем ином направлении и уже из Италии, замерзая от холода в неотапливаемых номерах, пишет Ольге Леонардовне восторженные строки: «Кто в Италии не бывал, тот еще не жил».
Дмитрий Капустин подводит читателя к важному вопросу о том, мог ли человек, для которого движение вперед было синонимом жизни, который признавался Ольге Книппер, что «ездить с места на место <...> приятнее, чем сидеть дома и писать», — мог ли он подчиниться болезни, «сидеть в тепле и пить теплое молоко», как рекомендовал бы его рассудительный коллега, доктор Эрик Шверер. Думается, что читать эту книгу стоит не только тем, кто хотел бы заново оценить, насколько обоснована идея Капустина о «большом азиатском путешествии» Чехова, и понять, что добавляет к ней описание европейских странствий писателя. Издание «Путешествий» похоже на коробку с фотографиями, хранившуюся долгое время где-то в шкафу, но вдруг кем-то найденную и бережно разобранную. Дмитрий Капустин разбирал «кадры» путешествий Чехова более десяти лет, прежде чем они сложились воедино, и потому отвернуться от этих страниц сможет, пожалуй, лишь тот, кто не понимает, что значит жить «с кровью странника в жилах».