Литературное дерьмо — это я
О новой книге Анатолия Гаврилова
Анатолий Гаврилов. Под навесами рынка Чайковского. Выбранные места из переписки со временем и пространством. М.: Городец, 2021
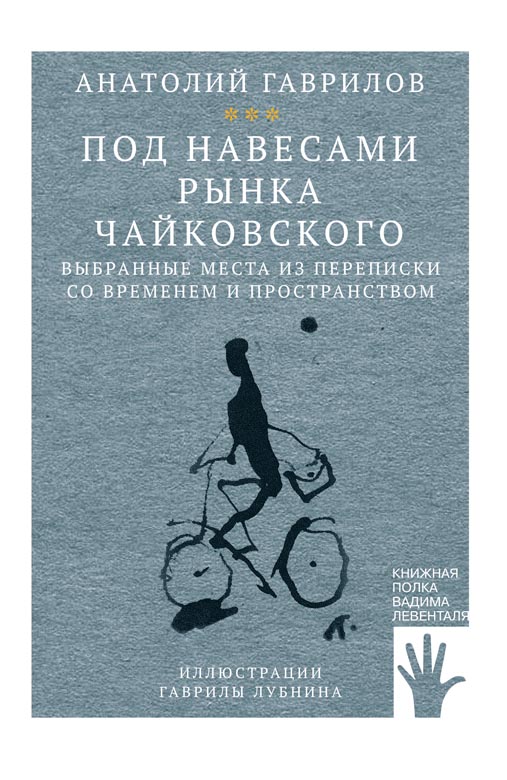 Проснулся в 7:50. Ночью мучился бессонницей. Включил рассказ Р. Л. Стайна про детей-оборотней. Потом до самого рассвета страдал кошмарами.
Проснулся в 7:50. Ночью мучился бессонницей. Включил рассказ Р. Л. Стайна про детей-оборотней. Потом до самого рассвета страдал кошмарами.
Когда прозвенел будильник, записал приснившуюся фразу: «В каждом, кто стремится в Венецию, течет кровь пришельцев с далеких планет». Потом добавил уже от себя (как мне казалось): «Чистые пруды. Картины Мондриана (нужны ли, и если да, то зачем?)».
Что бы это ни значило.
Отчитал товарища, не читавшего Льва Шестова. Сказал, что «Кризис безобразия» — очень сильная вещь, намного сильнее Чорана. Без толку.
Как видите, при кажущейся простоте метода подражать Анатолию Гаврилову — занятие бессмысленное, заведомо обреченное на провал. Одно фальшивое слово или даже слог — и текст рассыпается, не оставляя после себя ничего, кроме чувства неловкости.
«Под навесами рынка Чайковского» — первая большая (двести страниц по его меркам — почти эпопея) книга Гаврилова за долгие годы. В ней собраны сотни кусков осколочной прозы, складывающиеся в единый нарратив, главным действующим лицом которого оказывается город Владимир, но не открыточный, а настоящий — Владимир спальных районов, ветхих погостов и дешевых столовых, забитых чудаковатыми пьяницами. Как и в «Берлинской флейте» и «Вопле впередсмотрящего», Гаврилов остается верен собственному стилю, а точнее — его подчеркнутому отсутствию: того, что принято называть выразительными средствами, здесь не встретишь, а если какие-то поэтизмы вдруг проскальзывают, то для демонстративного превращения в штамп. Его рассказчики-герои симулируют старческое слабоумие, притворяются, что рассуждают о Гегеле, и якобы учат немецкий язык. Кажется, будто сам Беккет инсценировал свою смерть, чтобы перебраться во владимирскую хрущевку и устроиться разнорабочим (и весьма символично, что в так называемой большой литературе Гаврилов дебютировал очень поздно, в 1990-м, будто дожидаясь ухода великого ирландца на вечный покой).
Но очевидность гавриловской генеалогии так же обманчива, как мнимая воспроизводимость его почерка. Вроде бы истоки этой фрагментарной прозы ясны и располагаются они в диапазоне от Шестова и Розанова до словесных абстракций Павла Улитина; но и это лишь иллюзия — на самом деле в русской литературе Гаврилов такой же одиночка, добровольный изгнанник, как и его персонажи, если это слово применимо к призрачным субъектам, населяющим его тексты. Не менее ошибочно, на мой взгляд, вписывать его в рамки сетевой прозы, хотя редкий рецензент может устоять от этого соблазна. Пусть микротексты Гаврилова и существуют в фейсбуке, но лишь затем, чтобы подчеркнуть свою к нему враждебность: всякому подписчику Анатолия Николаевича знакомо это радостное и немного сбивающее с толку чувство, когда в ленте новостей в самый неожиданный момент появляется один из его странноватых диалогов:
«— Чем занимаешься?
— Купил хлеб, квас и батарейку для компьютерной мышки.
— Что еще?
— А потом позвонил друг юности и сказал, что я — литературное дерьмо.
— А ты?
— Я поблагодарил его и лег спать».
Давайте посмотрим, как устроен этот непонятный разговор неизвестно кого неизвестно с кем. Трагикомический эффект здесь достигается за счет незаметного на первый взгляд сбоя в коммуникации. Один «герой» спрашивает у другого, чем он занимается в настоящее время. Ответ следует во времени прошедшем. На уточняющий же вопрос «герой» отвечает уже в будущем, издевательски уклоняясь от беседы и свое ерничество подкрепляя очевидной (но не для собеседника) цитатой из Хармса.
Собственно, вся мозаика книги «Под навесами рынка Чайковского» скрепляется такими столкновениями, переходящими в абсурдистские и абсурдные конфликты. Авторский текст здесь парадоксально прерывается цитатами из Салтыкова-Щедрина и Мадлен Олбрайт, субъект гавриловской прозы то копит на мотоцикл «Ямаха», то разом пропивает накопленные деньги, то бежит в ужасе при виде богомола, то побеждает Джо Фрейзера в бою за пояс чемпиона мира в тяжелом весе. Каждая следующая страница гавриловской прозы пишется для того, чтобы опровергнуть предыдущую; «жизнь была хорошая, но лучше не вспоминать» — такое кредо декларирует повествователь. Впрочем, это упадническое заявление он делает, чтобы опровергнуть свое же шутливое замечание:
«Работаю над воспоминаниями. Жизнь огромна. Воспоминаний много. Тут и Время, и События. Тут и ты, и твои родители, и родители родителей, и твой детсад, и твоя школа. Это, думаю, будет большая книга. Там будет много фотографий. Там будет не только про людей, но и про домашних животных. Я издам ее за свой счет. Эти деньги я копил на свои похороны. Но что смерть перед Словом? Это будет новое Слово! Мир еще вздрогнет!»
С памятью у героев этой книги вообще особые отношения. Что-то вспоминают они лишь для того, чтобы было что забыть; так и Гаврилов пишет лишь для того, чтобы тут же зачеркнуть написанное, а собственные поиски утраченного времени он затевает в надежде ничего не найти. Говоря об этом свойстве гавриловского письма, Игорь Клех когда-то в довольно злой, но проницательной статье назвал его «мечтательным мазохизмом». Это неверно и несколько напоминает известную реплику Бертрана Рассела о том, что Достоевский грешил, чтобы испытать удовольствие от покаяния. Мне же кажется очевидным, что иронический фатализм Гаврилова плотно вписан в особую поэтику неудачи, которую исповедовали такие разные авторы, как тот же Беккет, Генри Миллер или Эдуард Лимонов. Сравнение со вторым и третьим может показаться неожиданным, ведь у Гаврилова нет ни мрачной озлобленности Миллера, ни мачистской хрупкости Лимонова. Однако каждого из них связывает общая творческая стратегия, так сформулированная Анатолием Николаевичем: «Хотелось чего-то необыкновенного, и на последней минуте, в красивом падении, головой, забил гол в свои ворота. Все ушли, а он остался лежать».
Вот только в случае с Гавриловым эта стратегия оборачивается несостоятельностью, потому что ему каким-то чудом удается писать тексты, которые нравятся решительно всем. Это ли не то самое поражение, к которому так стремятся его нервные герои?
На этом стоило бы и закончить, но за чтением «Под навесами рынка Чайковского» мне вспомнился удивительный случай, произошедший со мной в Суздале, что неподалеку от Владимира.
Одной летней ночью я заблудился в этом маленьком, но крайне незнакомом городке и забрел на территорию Покровского монастыря. Вдруг в одной келье зажегся свет. Через стекло на меня посмотрела то ли монахиня, то ли послушница.
Я посмотрел на нее.
А она все смотрела на меня.
Постепенно и я, и случайная свидетельница моего присутствия пришли в состояние, которое можно описать разве что словом «ужас».
Такая вот история интересная.
А тем временем во Владимире стартовал первый книжный фестиваль «Китоврас». Всячески рекомендуем его посетить.