«И на целовальнике шляпу топориком просекли»
Насилие и право в Московском царстве
Насилие всегда было привлекательной для читателей темой. Его уровень, распространенность и формы говорят об обществе больше, чем экономика, политика, достижения литературы и изящных искусств вместе взятые. В насилии в том или ином виде сконцентрирован менталитет составляющих общество индивидов. Из их ощущений, чувств, идей, связанных с насилием, формируются представления о власти, сама власть во всех ее проявлениях, а в конечном результате — экономика, политика, литература и искусство.
Поэтому так важна для современного российского читателя книга профессора Стэнфордского университета Нэнси Коллманн «Преступление и наказание в России раннего Нового времени». Она не только прекрасно написана, но привлекает и широтой охвата, и глубиной (список проработанной автором литературы занимает пятьдесят страниц) анализа. Профессор открывает по преимуществу малоизвестные широкому читателю страницы истории России. Анализируя практику применения уголовного права, Коллманн не только через судебные дела раскрывает повседневную жизнь людей в их взаимоотношениях с государством, но и убедительно доказывает, что Россия раннего Нового времени имела судебную культуру, во многом сопоставимую с судебной культурой стран Западной Европы.
Своеобразие, даже уникальность, — но не другой мир, не другая планета. Непрописанность, если сравнивать с Западом, многих законов, отсутствие независимого суда, профессиональных юристов, адвокатского корпуса — все эти российские особенности, в той или иной степени сохранившиеся до наших дней, в книге признаются и отмечаются. Однако уже во введении Нэнси Коллманн пишет о том, что современная историография «одновременно воспроизводит и оспаривает старые стереотипы», преобладающие при описании права и управления в России раннего Нового времени. Например, посетившие Московское царство путешественники были по преимуществу точны в своих описаниях, но создали «клише, закрепившее восприятие инаковости России, благодаря тому, что преувеличивали так называемые „современные” элементы в их собственных обществах». Современные же исследования подорвали модель русского государства как монолитного и деспотичного, показав, что в Московии соблюдались четкие правовые процедуры. С другой стороны, они подтвердили и положения о характерных для российской системы праве жестокости и культуре доносительства.
В конечном счете при использовании микроисторического подхода становится видно, как размывается якобы жесткая оппозиция «рациональное / деспотическое». Это происходит, когда автор ссылается на многочисленные судебные дела: от воровства и грабежа до измены и бунта против власти. Вкупе с другими историческими документами, описаниями телесных наказаний и различных видов смертной казни у автора появляется возможность с высокой степенью достоверности реконструировать то, «как государство определяло преступление и наказание, как индивиды и сообщества взаимодействовали с судами, как применялось и воспринималось насилие».
Автор признает, что Россия в период с конца XV века и до начала XVIII века была страной с очень высоким уровнем насилия. Скорее всего более высоким, чем во многих других странах, но, анализируя взаимоотношения закона, законности и насилия, Коллманн подчеркивает, что «справедливость была важнейшим элементом политической легитимации: добрый царь должен был обеспечить справедливость и защитить свой народ от несправедливости. <…> Соединение милости, справедливости и насилия обеспечивало легитимность в политической идеологии Московского государства. Московская судебная система действовала в соответствии с правилами, зафиксированными в законе, и нормами, свойственными политической идеологии. Вместе они создавали функциональную, стабильную и справедливую судебную систему и сильную правовую структуру».
Для подтверждения этих положений автор опирается на два комплекса фундаментальных идей. Первый связан с теорией философа и культуролога Рене Жирара (кстати, бывшего с 1981 года, как и Коллманн, профессором Стэнфордского университета) о жертвоприношении, «миметическом насилии», лежащем в основе культуры и социума. То есть речь идет о теории, обосновывающей «представление, что все суверенные фигуры и только они — и правители как индивиды, и судебные системы — располагают правом убивать во имя социальной стабильности: это и является основанием их притязаний на легитимность». Второй комплекс идей основан на положениях Мишеля Фуко, который рассматривал «изменения в применении санкционированного государством насилия как один из важнейших факторов в процессе формирования государства современного типа». Коллманн, вслед за Фуко, видит в принуждении раннего Нового времени насилие открытое и физическое, которое постепенно переходит в насилие «интериоризированное и психологическое, но все равно остающееся принуждением». Также она использует археологический метод Фуко, через изучение подлинных документов эпохи от Ивана III до Петра I раскрывая структуру мышления всех участников процесса «реализации насилия», — от преступников, обывателей, служащих губных изб, палачей и воевод до самого верха иерархической лестницы Московского царства.
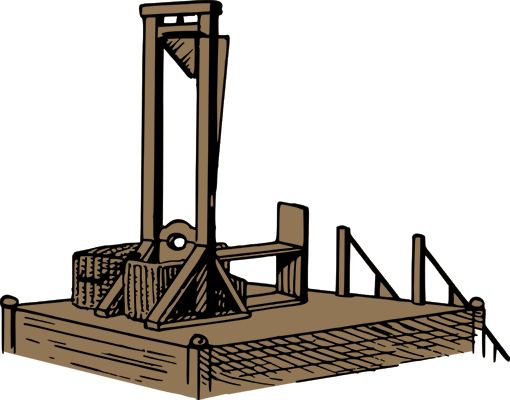
Основной корпус книги, состоящей из двух частей — «Судебная культура» и «Наказание», — открывается упоминанием трактата о государственном устройстве России, который был написан в 1666 году Григорием Котошихиным. Перебежавший в Швецию подьячий Посольского приказа Котошихин, вскоре казненный за убийство переводчика трактата, с женой которого состоял в связи, одной из важнейших характеристик Московского царства называл предельную централизацию судебной системы: если кого-то «за духовные дела в воровских статьях осудят на смерть, и они приговор свой посылают с теми осужденными людьми в царский суд … а без царского ведома не казнят ни за что». Централизация (и не только судебная) была той целью, к которой стремились властители России, начиная с государя Ивана III, и которой в полной мере добился император Петр I. Она была столь гипертрофированной, что уже в XVII веке провинциальные чиновники испрашивали у «центра» разрешение на покупку писчих принадлежностей — и не получали его, если использовали имевшиеся ресурсы раньше положенного времени.
Взаимоотношения между осуществлявшим легитимное насилие государством и сообществами были далеко не такими, какими они представляются современному читателю, находящемуся в плену устойчивых стереотипов о покорности власти, якобы присущей жителям Московии. Подозреваемые в преступлениях часто отказывались подчиняться власти, оказывали открытое сопротивление, оправдывая свое поведение или несправедливостью обвинения, или коррупцией осуществляющих правосудие лиц. Иногда сопротивление власти было жестоким: родня, соседи и большие группы людей часто «учинялись сильны» перед посланниками власти, оскорбляли и даже нападали на них. Так, например, когда в 1683 году губной староста Устюжны Железнопольской отправил целовальника, писца и воеводского пристава для ареста крестьянина, то жена помещика, которому этот крестьянин принадлежал «собрався с людьми своими и со крестьянами, с ружьями и з бердыши, выехав в поле за губным дьячком и целовальником ганялись. И того своего крестьянина убойцу Еремку отбили, и на целовальнике шляпу топориком просекли, и приставов и целовальников били».
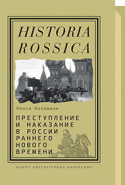
Несомненный интерес представляет и анализ кадровой политики, которую вела центральная власть, пытаясь с разной степенью успешности выстроить систему государственного насилия на местах. Незначительное финансирование из центра (часть его присваивалась к тому же воеводами) не позволяло набирать палачей, тюремщиков, сторожей, а отсутствие наследственной касты палачей, имевшейся в Западной Европе, делало службу этой категории лиц крайне трудной. Лишь к концу XVII века государство определило, что «воеводы должны брать в палачи добровольцев из посадских людей», а при отсутствии «охочих людей» городской общине следовало (так отмечалось в Соборном уложении) «выбирать из самых из молодчих или из гулящих людей, чтобы во всяком городе без палачей не было».
Часть книги Нэнси Коллманн, посвященная наказаниям, целиком и полностью подтверждает положение о роли государства в контроле над насилием: «санкционированное государством насилие проводилось в жизнь хотя и принудительно, но в контексте взаимодействия между населением и государством». При этом вплоть до времени Ивана Грозного московские Судебники предусматривали телесное наказание и смертную казнь только для наиболее тяжких преступлений. Главным из телесных наказаний, «внушавшим ужас», согласно описанию посетившего Московию во времена царя Михаила Федоровича немецкого путешественника и дипломата Адама Олеария, было «битие кнутом». Кнут, несомненно, использовался и ранее, но впервые упомянут в Судебнике 1497 года. Важным в этом наказании, как и в битье батогами, была его публичность: она сводилась к цели отбить у зрителей охоту нарушать закон, а избиваемого (иногда до смерти) опозорить, «осоромотить». Впрочем, тот же Олеарий утверждал, что в отличие от Европы, отношение в России к наказанным кнутом или батогами было иным: этих людей не считали опозоренными окончательно, а лишь «несколько опозоренными». Что же касается клеймения и членовредительства, то они применялись не только в России, но к началу XVII века в Европе применялись все реже и реже, а России, наоборот, чаще и чаще, заменяя смертную казнь, использовать которую власть старалась, как указывает автор, дозированно и в исключительных случаях. Клейменные становились изгоями, которых тем не менее можно было использовать на тяжелых работах, на дальних рубежах огромного государства.
Смертная казнь в России проводилась также отлично от казней в европейских странах. Общей была, за редким исключением, публичность — как отмечалось в Соборном уложении, «чтобы иным таким, на то смотря, неповадно было так делать», — однако смертные казни в Европе были ритуализированы, сопровождались иногда помпезными шествиями, а в России, по утверждению автора, отличались «минимальной театральностью и минимальной показной жестокостью». Исключая «звериную жестокость» времен Ивана Грозного, — по свидетельству современников, самолично осуществлявшего и пытки, и казни, — церемонии смертных казней следовало проводить быстро и экономно. Главным для власти, как считает Коллманн, был «воспитательный момент»: например, в инструкциях, рассылаемых из Москвы воеводам, особо подчеркивалось, что «в страх иным с виселиц злодеев не снимать сколько можно».
Для читателя, не отягощенного глубокими историческими познаниями (для рецензента, в том числе), будет открытием, что театральность и крайнюю жестокость смертной казни в России ввел Петр I. Великий преобразователь вдохновился созерцанием публичных казней в Голландии, где пребывал в 1697–1698 годах. Пролог широкомасштабных петровских реформ стал и началом предельно жестоких казней, введением новых видов наказания: например, колесования — хоть и известного в России ранее, но законодательное утверждение получившего в петровском Воинском уставе. Высокую театрализованность казней петровского времени автор считает образцом воплощения крайних форм государственного насилия, перекрывающего возможные формы насилия «низового».
Основной вывод книги, тем не менее, заключается в том, что «в существенных аспектах модели государственного строительства, местного самоуправления и судопроизводства Россия раннего Нового времени не выбивалась из ряда современных ей государств Европы, включая Османскую империю». Более того, в России «система не была сонмищем ничем не ограниченных сатрапий, самосуда или неконтролируемой жестокости … Россия не была страной деспотизма». Этот вывод действительно во многом противоречит существующим стереотипам, что делает труд Нэнси Коллманн еще более значимым для взгляда из XXI века на давно прошедшие времена, влияние наследия которых на современность нельзя не учитывать.