Человек-вор и прогулки с незнакомцем по ночному Парижу
5 новинок французской литературы, которые могут вас заинтересовать
Pascal Quignard. L’homme aux trois lettres. Grasset, 2020
 Паскаль Киньяр — фигура энигматическая. В его литературном и социальном бытии, если одно вообще можно отщепить от другого, всегда остается недосказанность. Творчество его многогранно: он блестящий романист, талантливый и увлеченный эссеист, музыкант. У некоторых писателей литературная деятельность точно прозрачная завеса: пристально посмотришь сквозь нее — и увидишь сокровенные детали частной жизни. С Киньяром дело обстоит иначе, его писательство изменчиво, пластично и вертко, оно, как плащ-невидимка, вот уже много десятилетий помогает ему скрываться от посторонних глаз. Он — творец-отшельник, любящий держаться в тени и не докучать миру своим присутствием. Даже согласившись на публичное выступление, он, кажется, не хочет открываться и, прежде чем что-либо произнести, взвешивает на внутренних весах каждое слово. В самом деле, у читателя имеются книги, так что извольте читать, осмысляя сказанное и написанное.
Паскаль Киньяр — фигура энигматическая. В его литературном и социальном бытии, если одно вообще можно отщепить от другого, всегда остается недосказанность. Творчество его многогранно: он блестящий романист, талантливый и увлеченный эссеист, музыкант. У некоторых писателей литературная деятельность точно прозрачная завеса: пристально посмотришь сквозь нее — и увидишь сокровенные детали частной жизни. С Киньяром дело обстоит иначе, его писательство изменчиво, пластично и вертко, оно, как плащ-невидимка, вот уже много десятилетий помогает ему скрываться от посторонних глаз. Он — творец-отшельник, любящий держаться в тени и не докучать миру своим присутствием. Даже согласившись на публичное выступление, он, кажется, не хочет открываться и, прежде чем что-либо произнести, взвешивает на внутренних весах каждое слово. В самом деле, у читателя имеются книги, так что извольте читать, осмысляя сказанное и написанное.
Именно о том, как рождаются книги, как собираются в предложения слова, как, изливаясь на бумагу, оформляется мысль, Киньяр рассуждает в своем новом труде «Человек из трех букв». Это одиннадцатый по счету том из цикла «Последнее королевство», начатого восемнадцать лет назад и включающего эссеистику на животрепещущие темы. Нынешний опус полностью посвящен литературному творчеству и его сути. А «Человек из трех букв» не кто иной, как вор (от латинского fur), он же — писатель, чья жизнь всецело связана с воровством. Человек пишущий изымает язык из общественного пространства, он обкрадывает предшественников — тащит у них сюжеты, яркие речевые обороты, оригинальные мысли и стилевые приемы. Но только ли их ворует писатель? На этот вопрос Киньяр, оглядываясь на себя, дает отрицательный ответ.
В этих его рассуждениях есть кое-что необычное. Нет, форма в них все так же плотно взаимодействует с содержанием, а выбранный ракурс застает врасплох — Киньяр по-прежнему не любит смотреть на вещи в упор и заходит сбоку или отходит подальше, чтобы полнее охватить взглядом. Необычно вот что: в «Человеке из трех букв» отчетливо прослеживается автобиографический след, чего прежде за писателем не замечалось. Киньяра нелегко читать по-французски, он человек-энциклопедия, пишет замысловато, и в тексте его образуются густые наслоения смысла. Русскому читателю повезло — у нас есть замечательный переводчик Ирина Яковлевна Волевич, которая с недюжинным упорством, любовью и бережностью пробивается сквозь эти смысловые толщи. Она и сейчас готовит перевод киньяровских трактатов 1996 года «Ненависть к музыке». Увы, у нас нет постоянного издателя для Киньяра, потому как публиковать его — предприятие в известном смысле альтруистическое, не обещающее большой прибыли.
Valère Novarina. Le Jeu des Ombres. P.O.L, 2020
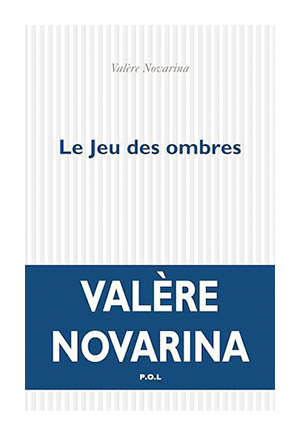 Предисловие (или послесловие) переводчика — вещь вроде бы необязательная. Считается, что переводчик — боец невидимого фронта и выходить из тени не должен. Бывает даже, что идея сопроводить перевод комментарием человека, переложившего иностранное литературное произведение на родной язык, встречает горячее сопротивление издателя, вызывает неодобрение у коллег по цеху и кажется читателям если не глупостью, то уж точно ненужной рисовкой. Но есть авторы и произведения, настойчиво подталкивающие переводчика к тому, чтобы написать обстоятельную апологию своим усилиям: объяснить творческий метод исходника и рассказать, какие адекватные ему художественные средства предлагает новая языковая материя.
Предисловие (или послесловие) переводчика — вещь вроде бы необязательная. Считается, что переводчик — боец невидимого фронта и выходить из тени не должен. Бывает даже, что идея сопроводить перевод комментарием человека, переложившего иностранное литературное произведение на родной язык, встречает горячее сопротивление издателя, вызывает неодобрение у коллег по цеху и кажется читателям если не глупостью, то уж точно ненужной рисовкой. Но есть авторы и произведения, настойчиво подталкивающие переводчика к тому, чтобы написать обстоятельную апологию своим усилиям: объяснить творческий метод исходника и рассказать, какие адекватные ему художественные средства предлагает новая языковая материя.
Таких объяснений требуют произведения Валера Новарина — драматурга и теоретика театра, чье творчество наследует комической традиции, берущей начало от Рабле. В подробнейшем предисловии к книге «Сад признания», вышедшей в 2001 году, Екатерина Дмитриева пишет: «Сам Новарина считает, что современный театр чересчур замедлен. Это театр Станиславского, от которого в настоящее время хочется отойти. Свою неприязнь к театру психологическому он объясняет так: в любом случае театр не способен достичь своего невозможного двойника — жизнь как космическую жажду, сделавшую проклятие из существования Арто. Чтобы избавиться от превосходства жизни, надо отказаться от спектакля. Нужен театр, который не сможет более смотреться в спектакле как в зеркале. И это — речевой театр, провозглашающий смерть смысла».
Наталья Мавлевич в качестве предисловия к русской «Оперетке понарошку» («Иностранная литература», 2006 г.) приводит свой «Геометрический этюд о переводе-импровизации», где отмечает: «Русский язык достаточно мелодичен и текуч, чтобы передавать волнообразность текста Новарина, но у него несколько иная просодия, и он не терпит свойственной французскому, с его ударениями на последний слог слова, фразы и периода, монотонности. Новарина приближается к классическому стиху (или удаляется от него — так или иначе, он из него исходит), а классический русский стих короче. Грубо говоря, тексты оригинала и перевода должны относиться друг к другу, как Корнель к Грибоедову. Вернее, Грибоедову, помноженному на Хлебникова и Хармса».
Новая пьеса Новарина «Игра теней» представляет собой все тот же труднопереводимый материал, построенный на принципах слухового театра, где многое отдано на откуп языковой игре в крайнем ее многообразии. Написать пьесу драматурга попросил знаменитый режиссер-постановщик Жан Беллорини, предложивший переосмыслить миф о любви Орфея и Эвридики. Премьера спектакля прошла в июле на фестивале в Авиньоне, который во Франции считается одним из главных театральных событий года. Беллорини решил наложить абсурдистский текст Новарина на классическую музыку Клаудио Монтеверди. Гастроли спектакля расписаны вплоть до мая следующего года, хотя сейчас, с учетом обстоятельств, неясно, какие из представлений состоятся.
Chantal Thomas. Café Vivre. Chroniques en passant. Seuil, 2020
 В книге «Кафе „Жить”. Хроники мимоходом» Шанталь Тома, известная писательница, драматург, сценарист и историк-литературовед, вспоминает слова из «Записок у изголовья». «Что пролетает мимо? „Корабль на всех парусах. Годы человеческой жизни. Весна, лето, осень, зима”», — перечисляет она вслед за Сэй Сёнагон. Скоротечность бытия необходимо осознавать, а осознав, «искать способ, пусть ненадежный и слабый, запечатлеть преходящее в его эфемерности — уловить его мучительную красоту».
В книге «Кафе „Жить”. Хроники мимоходом» Шанталь Тома, известная писательница, драматург, сценарист и историк-литературовед, вспоминает слова из «Записок у изголовья». «Что пролетает мимо? „Корабль на всех парусах. Годы человеческой жизни. Весна, лето, осень, зима”», — перечисляет она вслед за Сэй Сёнагон. Скоротечность бытия необходимо осознавать, а осознав, «искать способ, пусть ненадежный и слабый, запечатлеть преходящее в его эфемерности — уловить его мучительную красоту».
«Кафе „Жить”» для Тома становится способом зафиксировать в форме травелога дорогие ей воспоминания, связанные непосредственно или опосредованно с географически разнесенными по свету местами и людьми. Эти путевые записки напоминают дневники Лоренса Даррела — они вбирают в себя занимательные сведения об эпохах и персоналиях, заставляют историю горячо дискутировать с происходящим сейчас. «Кафе „Жить”» — не выдумка, а вполне реальное место. Тома любила сиживать здесь, когда приезжала в Киото. Японцы обнаруживают удивительную любовь к французскому языку и в своем стремлении подпустить шика при наименовании какой-нибудь гастрономической точки часто доходят до абсурда: «Сладкие удовольствия» (Plaisirs Sucrés), «Мужичок-с-ноготок» (Le Petit Mec), «Так себе кафе» (Café Comme Ça), Бистро «Лапочка» (Bistrot La Minette) и т. д. На этом фоне название кафе «Жить» говорит понятным языком и подкупает своим устремленным в будущее оптимизмом.
В одной из глав Тома пишет о своей любви к пейзажам мастеров голландской школы. В них смена времен года служит главным художественным образом, раскрывающим тяготы человеческой судьбы и нашу жажду жить. Самой писательнице одинаково удаются и пейзажные зарисовки, и бытовые, но особенно хорошо у нее выходят портреты — будь то маркиз де Сад, Екатерина Великая, Мария-Антуанетта, Ролан Барт или Уго Пратт.
Написанное выше может натолкнуть на ошибочный вывод, будто «Кафе „Жить”» сродни личному фотоальбому — из тех, что прячут в ящиках большого дубового буфета, чтобы когда-нибудь открыть его в приступе внезапной ностальгии по безвозвратно ушедшим временам. Новая книга Шанталь Тома скорее представляет собой что-то вроде пособия, которое учит, не оглядываясь постоянно на прошлое, обращать внимание на настоящее — вовремя спохватиться и не дать мгновению пройти незамеченным, остановиться и прочувствовать миг во всей его полноте.
Laurent Gaudé. Paris, mille vies. Actes Sud, 2020
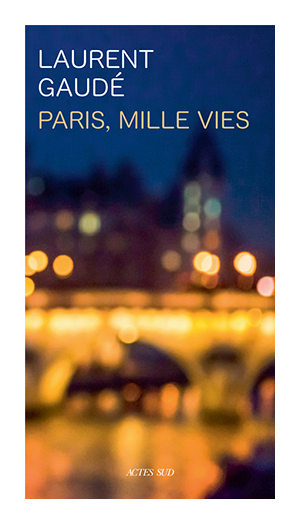 Вспомните, наверняка когда-то и вас на улице пытался остановить незнакомец. Реагировать на это можно по-разному. Отшатнуться, изо всех сил удерживая мысль, что не успела до конца развернуться, испуганная внезапным вторжением. Отважиться и выслушать чужую речь, страдая от предчувствия, что намеченный путь придется изменить или прервать вовсе. Как бы то ни было, в эту минуту ваше настроение, планы, день, а может быть, и целая жизнь оказываются во власти постороннего человека, которому бог весть зачем понадобилось возникнуть у вас на пути.
Вспомните, наверняка когда-то и вас на улице пытался остановить незнакомец. Реагировать на это можно по-разному. Отшатнуться, изо всех сил удерживая мысль, что не успела до конца развернуться, испуганная внезапным вторжением. Отважиться и выслушать чужую речь, страдая от предчувствия, что намеченный путь придется изменить или прервать вовсе. Как бы то ни было, в эту минуту ваше настроение, планы, день, а может быть, и целая жизнь оказываются во власти постороннего человека, которому бог весть зачем понадобилось возникнуть у вас на пути.
Однажды душным июльским вечером на вокзале Монпарнас Лоран Годе повстречал незнакомца. Тот пытался разорвать людскую толчею, снова и снова задавая прохожим вопрос: «А ты, кто ты есть такой?» Безуспешно. Люди не реагировали на городского юродивого, безучастно текли мимо, спеша домой навстречу вечернему уюту. Годе, поколебавшись, отважился подойти, и они вместе с незнакомцем ушли в парижскую ночь, влекомые первой прохладой. Безумец оказался хранителем истории в поисках человека, готового выслушать, услышать и передать ее дальше. «Париж — тысяча жизней» описывает эту прогулку длиной в одну ночь, протяженностью в несколько столетий.
Первая, хоть и избитая, ассоциация, возникающая при чтении текстов о городе света, — «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя. Книга Годе не исключение. Но если Хемингуэй парижского периода в пейзажных набросках подражает художественной манере Поля Сезанна, заимствуя мотивы, палитру и характер прорисовки, то Годе далек от постимпрессионизма. Его полночные хождения по городу скупы на цвета — события отдаленного и ближайшего прошлого излагаются читателю с монохромным аскетизмом. Колористическая аскеза работает выверено, создавая ощущение документальной хроники, которая не только вписана в прошлое и настоящее Парижа, но и определяет его будущее.
Anne-Sophie Mercier. Piccoli. Derrière l’écran. Allary Editions, 2020
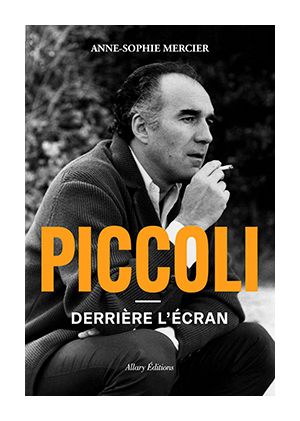 Имя Мишеля Пикколи по праву вписано в историю мирового кинематографа. Он играл в фильмах у величайших режиссеров — Алена Рене, Альфреда Хичкока, Жана Ренуара, Жан-Люка Годара, Луиса Бунюэля, Отара Иоселиани, Тео Ангелопулоса и других, список этот далеко не исчерпывающий. Несмотря на яркие физические данные — огромный рост, запоминающееся лицо, — он умудрялся быть хамелеоном, и оттого киноэкран не смог залучить его в западню, часто угрожающую менее одаренным актерам. Пикколи не стал исполнителем одного образа. Он сыграл более чем в двухстах фильмах, блистая в самых разнообразных ролях: папы Римского и каннибала, блестящего репортера и простого рабочего, романтического влюбленного и педофила. Он перевоплощался с удивительной легкостью, как будто по велению той самой детской считалки про царя, царевича, короля, королевича, сапожника и портного.
Имя Мишеля Пикколи по праву вписано в историю мирового кинематографа. Он играл в фильмах у величайших режиссеров — Алена Рене, Альфреда Хичкока, Жана Ренуара, Жан-Люка Годара, Луиса Бунюэля, Отара Иоселиани, Тео Ангелопулоса и других, список этот далеко не исчерпывающий. Несмотря на яркие физические данные — огромный рост, запоминающееся лицо, — он умудрялся быть хамелеоном, и оттого киноэкран не смог залучить его в западню, часто угрожающую менее одаренным актерам. Пикколи не стал исполнителем одного образа. Он сыграл более чем в двухстах фильмах, блистая в самых разнообразных ролях: папы Римского и каннибала, блестящего репортера и простого рабочего, романтического влюбленного и педофила. Он перевоплощался с удивительной легкостью, как будто по велению той самой детской считалки про царя, царевича, короля, королевича, сапожника и портного.
Пикколи умер в мае этого года, и книга Анн-Софи Мерсье — дань его памяти. При жизни актер никогда особенно не открывался журналистам. Он охотно давал интервью, но в ответах на личные вопросы был сдержан и не позволял себе откровенничать. «Пикколи. По ту сторону экрана» старается хотя бы отчасти восстановить неизвестные страницы жизни этого замечательного человека. Так, Мерсье много внимания уделяет проблемному детству актера и его незадавшимся отношениям с отцом и матерью. К счастью, те вовремя отдали замкнутого и безучастного ко всему ребенка на психологическую реабилитацию, что в 1930-е годы вовсе не было чем-то само собой разумеющимся. В противном случае мы никогда не узнали бы Пикколи-актера, а он, скорее всего, сгинул бы в каком-нибудь специализированном заведении для умственно отсталых детей.
Книга Мерсье — добросовестное журналистское расследование, опирающееся на все доступные материалы о Пикколи, а также на сведения, полученные от людей, входивших в его ближайший круг. Она написана просто и не претендует на лавры высокой литературы. Однако замечательно вот что. Эта книга в очередной раз указывает на одну существенную особенность породившей ее национальной культуры. Французская литературная среда старается как можно быстрее отреагировать на любое важное происшествие и создать о нем письменное свидетельство, что само по себе очень завидное свойство.