Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Питер Т. Лисон. Невидимый крюк. Скрытая экономика пиратов. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023. Перевод с английского Ирины Шевелевой. Содержание. Фрагмент
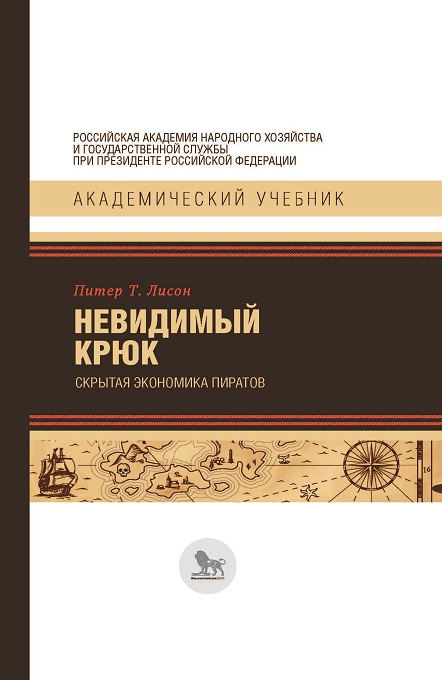 Бывает, исследователю приходит в голову концепция настолько красивая, что он, ослепленный красотой собственного наблюдения, перестает видеть все противоречащее его теории. Для американского экономиста-либертарианца Питера Т. Лисона такой концепцией стало то, что преступное пиратское сообщество было одним из первых примеров демократической организации жизни в современном понимании. Эту идею он изложил в книге 2009 года The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates, принесшей совсем молодому на тот момент автору несколько наград и широкую известность не только в академических кругах.
Бывает, исследователю приходит в голову концепция настолько красивая, что он, ослепленный красотой собственного наблюдения, перестает видеть все противоречащее его теории. Для американского экономиста-либертарианца Питера Т. Лисона такой концепцией стало то, что преступное пиратское сообщество было одним из первых примеров демократической организации жизни в современном понимании. Эту идею он изложил в книге 2009 года The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates, принесшей совсем молодому на тот момент автору несколько наград и широкую известность не только в академических кругах.
Питер Т. Лисон — усердный ученик своего научного руководителя Питера Бетке, одного из ведущих среди современных представителей австрийской школы экономики, радикально противостоящей, например, идее государственного планирования. Рождение и расцвет этой теоретической системы застал, в частности, Николай Бухарин, описавший ее в статье с красноречивым заглавием «Политическая экономия рантье» как «идеологию буржуа, уже выброшенного из производственного процесса, деградирующего буржуа, который черты своей разлагающейся психологии навеки воплотил в своей познавательно совершенно бесполезной теории».
Австрийская экономическая школа, впрочем, оказалась живучее многих своих критиков из марксистского лагеря и неоднократно напоминала о себе как по политическим, так и практическим поводам. Так, на волне глобального экономического кризиса о ней в очередной раз вспомнили как о вполне дееспособной альтернативе кейнсианству.
Для исследователей вроде Питера Т. Лисона пресловутая «невидимая рука рынка» — безусловный фундамент, на котором строятся все человеческие отношения как на микро- , так и на макроуровне. Государство в эту систему вписывается только в качестве помехи, вечно нарушающей естественный ход вещей.
Почему для иллюстрации своих идей Питер Т. Лисон обратился именно к пиратам — морским разбойникам, которые прославились делами, никак не вписывающимися даже в максимально широкие моральные рамки либертарианцев? Причин две. Во-первых, автор «Невидимого крюка» с детства любил книги и фильмы про пиратов. Во-вторых, — что, конечно, более важно, — пиратское сообщество действительно хотя бы частично отражает возможности, которые предлагает самоуправление при отсутствии государства.
Питер Т. Лисон плохо скрывает свое восхищение бандитами, убивавшими и пытавшими ни в чем не повинных людей ради единственной цели — личного обогащения. Апология его имеет определенную справедливость. По замечанию исследователя, подкрепленному документами, большинство моряков шли в пираты добровольно. А ответственность за рождение пиратства лежит в том числе и на государственной власти, поддерживающей институциональную экономику, важнейшей частью которой в ту эпоху был торговый флот. Занятый легальным трудом матрос в мирное время, то есть не получая военных надбавок, мог рассчитывать лишь на самое скромное жалованье. При этом работником он был бесправным, находящимся в полной власти капитана, который распоряжался членами экипажа согласно своей воле и прихотям:
«„Чрезмерная суровость капитанов, оставлявшая следы на спинах и животах [матросов]“, была в верхней части списка причин, которые вынуждали пиратов заниматься их незаконным бизнесом. Капитан пиратов Джон Филлипс, например, назвал одного офицера захваченного им торгового корабля „сукиным сыном, который морил людей голодом. И именно такие паршивые псы, как он, превращали людей в пиратов“. Последние слова пирата Джона Арчера перед казнью перекликаются с замечаниями Филлипса: „Я хотел бы, чтобы капитаны судов не использовали своих людей с такой строгостью, как это делают многие из них, что подталкивает нас к бóльшим искушениям“».
Пиратская жизнь казалась полной противоположностью тяготам службы на торговом флоте. Закономерным финалом карьеры разбойника, как правило, была виселица, однако все равно оставалась надежда сходить в один-два особенно удачных рейда, которые позволили бы начать жизнь с чистого листа и ни в чем не нуждаться до скончания века. Еще более привлекательным было то, что на пиратском судне можно было почувствовать себя свободным человеком среди таких же свободных людей. Капитан обычно не имел собственной каюты и спал вместе с матросами, его жалованье лишь в два раза превышало заработок рядового, а квартирмейстер следил за тем, чтобы провизия и другие блага распределялись максимально справедливо между всеми участниками сообщества.
Самое же главное различие между пиратами и «институциональными» коллегами заключалось в самой структуре их общественной организации. На торговом флоте капитанами назначали людей, имеющих долю в предприятии, — благодаря этому командир экипажа был персонально заинтересован в успехе проекта и вел себя с матросами сообразно экономической эффективности. То есть драл три шкуры с бесправных подчиненных. На пиратском корабле капитана назначали сами матросы, выбиравшие лидера среди наиболее, на их взгляд, достойных. Они же в любой момент могли отстранить его от службы, если бы сочли, что он злоупотребляет полномочиями. Другие высокие должности на судне также были выборными, а сама структура этой небольшой корпорации имела множество сдержек и противовесов:
«Институциональное разделение властей у пиратов предшествовало принятию подобных институтов официальными властями в XVII-XVIII вв. Франция, например, не видела такого разделения до 1789 г. Первый признак разделения властей в Испании появился не ранее 1812 г. Пираты же разделили „демократическое правительство“ на своих кораблях по крайней мере за столетие до того, как это было сделано в Испании и Франции».
Главным политическим достижением пиратов и буканьеров автор считает то, что им удалось разрешить базовый парадокс власти, который можно сформулировать следующим образом: когда в борьбе за власть побеждает одна группа, все остальные проигрывают; когда пришедшая к власти привилегированная группа начинает эксплуатировать все остальное общество, у основной массы граждан исчезает стимул производить блага, которые все равно присвоят элиты; как итог — в проигрыше оказываются все без исключения. Наиболее выпукло механизмы этого процесса продемонстрировали самые жестокие и в то же время экономически и политически несостоятельные африканские диктатуры, но вообще «парадокс власти» в той или иной степени присущ любому, даже самому развитому и демократическому государству. Пираты же сумели распределить между собой власть таким образом, чтобы эффекты этого противоречия сводились к минимуму, а стимулы эффективно участвовать в экономических процессах (в данном случае — грабежах и последующем разделе добычи) оставались стабильно высокими.
Питеру Т. Лисону безусловно приятен тот факт, что разрозненные «шайки головорезов» почти сто лет (с возникновения буканьерства в 1650-х до окончательного разгрома пиратов в 1720-х) держали в ужасе целые морские державы — во многом за счет принципов самоорганизации, близких к анархистской утопии. Читателю наверняка бросится в глаза то, что это одна из самых уязвимых точек авторской аргументации: все-таки по меньшей мере странно сравнивать многомиллионную империю, находящуюся в состоянии непрерывной внутриполитической борьбы, с микросообществом, изначально сформированным исключительно общими интересами.
Здесь же, говоря об этих самых интересах, важно уточнить, что Питер Т. Лисон не только анархо-капиталист, он убежденный сторонник консеквенциализма. На протяжении всей книги автор почти навязчиво проносит одну мысль: то, чем занимались пираты, несомненно, было чудовищно, а поступки их были продиктованы исключительно эгоистической жаждой обогащения за счет страданий других. Однако, указывает Питер Т. Лисон, в долгосрочной перспективе этот крайний эгоизм приводил к формированию крепкого коллектива, с моральной точки зрения куда более прогрессивного, чем в большинстве государств той поры: пиратам, вероятно, были чужды расизм, гомофобия и прочие предрассудки, а за сексуализированное насилие они карали смертной казнью. И здесь налицо определенное противоречие.
Безусловно, эгоизм пиратов и приверженность общему делу в их сообществе сводили на нет возможные социальные конфликты, имеющие в государстве культурные основы, как правило сформулированные наверху и затем спущенные вниз. Но только в пределах их сообщества. А вот жертвам пиратов вряд ли стало бы легче от осознания того, что уши им отрезают не дремучие монархисты, а прогрессивные демократы. Зато подобная логика, вопреки, наверное, воле автора, отлично демонстрирует, что консеквенциалистский подход лучше всего работает там, где одной из сдержек является обладание каждым членом сообщества инструментами насилия и, главное, где каждый из участников социума пребывает в полной готовности их применять. Если продолжать проводить параллели между пиратами и матросами торгового флота, то, пожалуй, именно фактор равного в одном случае и неравного в другом распределения орудий насилия и позволил одним строить «демократию» на отдельно взятом судне, а другим не дал возможности отстаивать даже базовые права.
Сам Питер Т. Лисон последовательно избегает подобных рассуждений из области этики, редуцируя описываемый им исторический опыт до сугубо рациональных мотивов. По версии Лисона, пираты в самом деле никогда не следовали человеческим эмоциям и даже зверства свои совершали, руководствуясь четким бизнес-планом. Этому посвящены самые интересные главы «Невидимого крюка», в которых рассматривается то, что автор определяет как «экономика „Веселого Роджера“» и «экономика пыток». В этих разделах Лисон весьма остроумно и на этот раз вполне осознанно переносит современные представления о маркетинге на ситуацию золотого века пиратства.
Под «экономикой „Веселого Роджера“» подразумевается создание самого известного пиратского бренда — флага с черепом и костями, а также его многочисленные вариации, порой изощренные («На пиратском черном флаге [капитана Бартоломью Робертса] были изображены также копье, пронзающее сердце, теряющее кровь каплю за каплей, и человек с пылающим мечом в руке, стоящий на двух черепах с изображенными на них аббревиатурами: А. Б. Х. и А. М. Х., что расшифровывалось как „череп жителя Барбадоса“ и „череп жителя Мартиники“»). Лисон задается резонным вопросом: зачем пиратам нужно было подавать своим жертвам специальный сигнал о том, что сейчас их будут убивать? И дает неожиданный ответ: чтобы по возможности никого не убивать. Автор «Невидимого крюка» выдвигает гипотезу, согласно которой «Веселый Роджер» был именно сознательно спроектированным брендом. Маркетинговая задача его заключалась в том, чтобы заранее отбить желание сопротивляться и тем самым минимизировать масштабы насилия и, соответственно, связанные с ним риски.
Из этой модели закономерно вытекает другой пиратский бренд — изощренные пытки. Фильмы и книги приучили нас думать, будто самое страшное, что с нами может произойти на пиратском судне, — прогулка по доске с завязанными глазами. Участь незавидная, но не идущая ни в какое сравнение с теми методами экстремального насилия, к которым в действительности обращались пираты, когда расчленяли своих жертв, жарили их живьем на камнях и заставляли есть куски человеческой плоти (только что оторванные от самого едока). Лисон убежден: применение или неприменение жутких телесных наказаний также было частью пиратской экономической модели. Если бы разбойники вовсе не прибегали к насилию, торговцы перестали бы сдаваться при одном только виде черного флага. И напротив, если бы пираты каждый раз демонстрировали крайнюю жестокость, у их жертв не было бы стимула сдаваться без боя: если ты знаешь, что тебя в любом случае будут мучить страшными пытками, то логично хотя бы попробовать оказать сопротивление. Таким образом, пиратскому командованию приходилось постоянно находить баланс между теми или иными действиями и возможным эффектом, который они окажут на «рынок» морского разбойничества. Мысль, безусловно, красивая, но перед глазами почему-то встает карикатурный киношный пират с деревянной ногой, который чертит на доске кривую спроса, на одной оси которой написано «пытки», а на другой — «страх и трепет».
Из таких красивых, справедливых и не очень, наблюдений, по сути, и составлена работа Питера Т. Лисона, местами возмутительная, буквально требующая, чтобы ее опровергли, но бесконечно занимательная. Как минимум тем, что доступно распаковывает ключевые идеи одной теории в ее самых крайних проявлениях. В остальном же «Пиратский крюк» — действительно качественный научпоп, который, однако, при некритическом к нему отношении способен зарядить и без того подвижный либертарианский ум пафосом вульгарного экономического детерминизма.
А кому это надо? Никому не надо.
