«Отсутствие внешнего врага — это ужасно»
Беседа с прозаиком Павлом Крусановым
— Как вы решили стать писателем? В детстве вы знали о своей судьбе?
— В школьные годы, наверно, все юноши и девушки из благополучных семей сочиняли стихи или думали, что сочиняют стихи. Переболел и я. Хвала небесам, в легкой форме. А потом началась музыка. Конец 70-х — начало 80-х, в Ленинграде, да и в остальной России, но в Ленинграде особенно, такое время, когда всё и вся было музыкой затоплено. Музыка стала мерой вещей: скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу тебе, кто ты. Буквально так. На этом основании строились какие-то групповые симпатии и более широкие субкультурные конструкции. Я погрузился в пучину русского рока, был членом Ленинградского рок-клуба. Кстати, очень характерная история: в то время в Ленинграде не было строгого цехового деления, какое есть сейчас — поэт, музыкант, художник, — все варились в одном котле, все были друг с другом знакомы и делали, как им казалось, одно дело. Противостояли унылому официозу. Прекрасная иллюстрация здесь — курехинская «Поп-механика». Драгомощенко читал со сцены стихи, задники мог расписывать Тимур Новиков или Африка — все это была одна компания, делающая одно общее дело. Да... Но в музыке, к сожалению, ты не можешь в одиночку полностью отвечать за результат, поскольку музыка — дело коллективное. Как провел накануне вечер барабанщик или басист, попадает ли теперь один в доли, другой в ноты — это было выше меры твой личной ответственности. Отсюда неудовлетворение. Возможно, именно подспудное желание отвечать за все от начала и до конца стало тем побудительным мотивом, который вытолкнул меня в литературу, поскольку здесь ты и только ты отвечаешь за каждую букву. Тут — высшая мера ответственности.
— Когда группа организовалась? Как она называлась?
— Их было несколько. В последние школьные годы играл в пафосной группе «Реквием». Выступали на школьных вечерах, в техникумах. Играли тяжесть, которая была мне не по сердцу, но остальные в коллективе склонялись к хард-року. Потом, уже в студенческие годы, был новый состав, играли нью-вейв, называлась группа «Хамелеончик за», веселая такая банда. С аппаратурой были нелады, поэтому одновременно был наготове второй, акустический состав под названием «Абзац». В акустическом составе выступали на квартирниках. Со многими музыкантами переиграл, с Лешей Рыбиным, который одновременно репетировал с «Кино» — тогда, кажется, это называлось «Гарин и гиперболоиды». В «Хамелеончике за» какое-то время играл Андрей Забулдовский, впоследствии гитарист «Секрета».
— Вы играли со своим братом Андреем?
— Нет, брат к музыке никакого отношения не имеет. Он всегда имел склонность к архивной работе, едва ли не с детства.
— Вы биолог, а брат — биохимик, правильно?
— Верно, химик. Но занимается русским авангардом, который, конечно же, уже шагает не впереди, а где-то в прошлом. Химия ему в исследовании авангарда здорово помогает: он попутно занимается атрибутированием живописных работ конца XIX — начала XX веков, и даже какую-то свою эксклюзивную методу разработал. Что-то там с лаками и красками — анализирует состав на присутствие определенных изотопов. Что-то в этом роде — врать не стану.
А я закончил институт Герцена, там в это время был сдвоенный факультет — география и биология. Склонность к живности имел с детства. Еще совсем юным созданием бегал с сачком за бабочками, за жуками, составлял коллекции. Потом, естественно, нагрянула юность, любовь и музыка потеснили букашек, но, когда пришла пора выбирать институт, опять поманила биология. Словом, я выбрал факультет по душевной склонности. Кстати, склонность до сих пор осталась — и к биологии, и к географии.
— Что вы читали в детстве? Какие книги считали важными для себя?
— В детстве, помню, летними вечерами, когда родители снимали под Лугой дачу, отец нам с братом читал вслух Гоголя: «Тарас Бульба», «Вий», «Страшная месть». Литература входила в меня сначала со слуха, и только потом началось собственно регулярное чтение. Очень увлекла поэзия. В виде стихов. Тютчев, Фет, Гумилев, Кузмин, Мандельштам, Парнок, Пастернак, Есенин... Забавляли футуристы, но не очаровывали. Мой брат старше на три года, он уже учился в институте, я брал у него билет в Публичную библиотеку и, будучи старшеклассником, ходил в научные читальные залы. Заказывал то, что было интересно, книги цеплялись одна за другую: там, собственно говоря, и составил себе карту чтения, переходя понемногу от поэзии к прозе. Зацепили авторы начала XX века — Замятин, Пильняк, Артем Веселый, ранний Всеволод Иванов. Большинство из перечисленных в ту пору не переиздавались, хотя по букинистическим лавкам лежали их старые книги, которые вполне можно было купить. Что я и делал, хотя стоили они больших денег.
— А тексты вы писали для группы?
— Писал. Писали и другие — Рыбин, например.
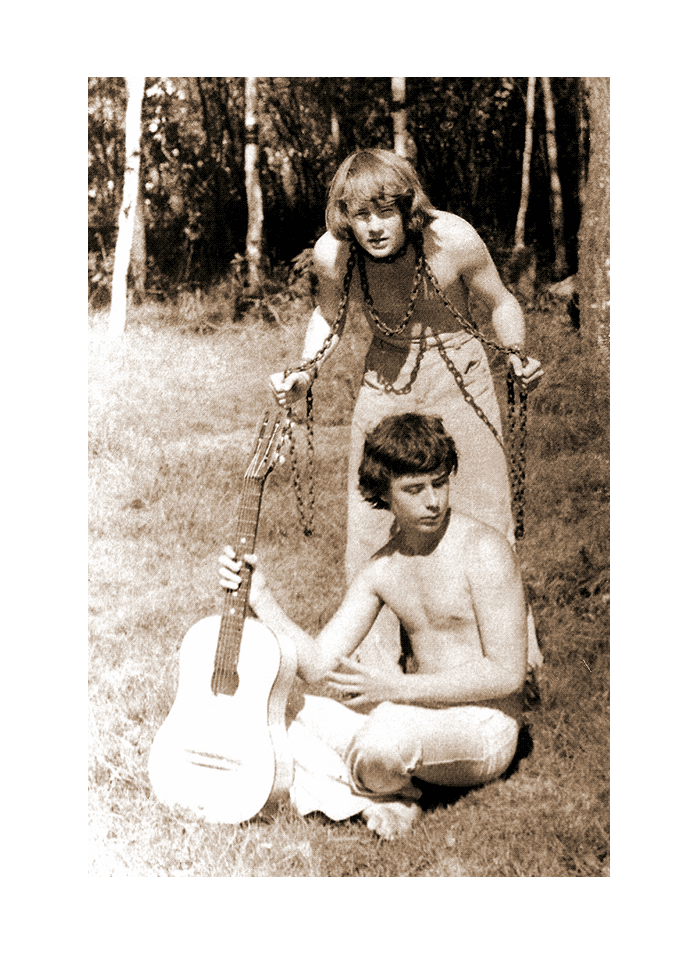 Павел Крусанов (сидит) с другом Федором в школьные годы
Павел Крусанов (сидит) с другом Федором в школьные годы— И как вы сейчас относитесь к своим песням?
— Не стыжусь, но и не пою. К литературе это имеет опосредованное отношение. Только в том смысле, что текст сшит из той же материи — из слов. Большого искусства в этом нет, то, что это не поэзия, это определенно. С другой стороны, хорошая поэзия, знаете ли, не поется. Ей этого не надо. Текст песни — это особый жанр, он только притворяется поэтическим.
— В рок-клубе вы были с самого начала?
— Да, с первого года его создания. Это была мощная творческая тусовка, но со своими заморочками — тут и металлисты, и панки, и рокеры, и романтики, кто-то регги играет и так далее. Одни на других смотрели свысока, другие в ответ посмеивались, третьи сморкались вслед тем и этим... Словом, свобода самовыражения. Все было очень непросто, но атмосфера общего дела, как уже говорил, чувствовалась.
— При этом выступать вы не могли, но делали это как-то.
— Ну как не могли, мы еще в школе выступали на различных праздничных вечерах. Нас приглашали играть в других школах — и даже за небольшие деньги. Другое дело, что нельзя было выступать официально, в концертных залах. Все сейшены были подпольные, играли в залах, снятых под какие-то несуществующие мероприятия. Там такие воротилы подпольного менеджмента были — Юра Байдак, Ира Иванова — легендарные личности.
— То есть это был настоящий подпольный менеджмент?
— Да, конечно. Билеты продавались — такие смешные клочки бумаги с каким-то штампиком. Вырезалась на школьном ластике неказистая печать, мазалась чернилами и прикладывалась к бумажке. Стоили билеты до трех рублей. Две-три бутылки сухого вина по тем временам.
— Но вы говорите, что рок-клуб был совершенно не политизированный, то есть история не про сопротивление?
— Были определенные музыканты в рок-клубе, которые считали, что рок — это музыка протеста, неприятия, и все, кто взял в руки гитару, непременно должны, пусть и на эзоповой фене, всю окружающую фальшь выводить на чистую воду, вошь на гребешок. По принципу московской «Машины времени». Кстати, именно благодаря этому подходу тексты в русской рок-музыке подчас выглядят столь жалкими, занудными и дидактичными. Но основной массе новой волны, в которую я тогда влился, было глубоко наплевать на любую дидактику и патетику — тошнило и от официальной, и от протестной. Мы были молодые, злые и веселые. И упивались молодостью и возможностью растворяться в музыке, которая стала для нас всем, заменила собой все.
— Скажите тогда, как вы относитесь к фильму «Лето»?
— Нормально отношусь. Меня пугали, мол, ужас-ужас, но слухи оказались сильно преувеличенными. Вообще, это была идея Тани Москвиной — отправить меня на этот фильм, потому что ей нужно было срочно написать про него в газету «Аргументы недели», где она заведует отделом культуры, и ей требовалось мнение непосредственного свидетеля событий. Гребенщиков, Панкер — эти поругивали. Тем не менее мне понравилось. Конечно, к этому фильму нельзя относиться как к исторической реконструкции, все было не совсем так, но атмосфера там схвачена. Вот именно — это атмосферный фильм. Дух подлинности на меня повеял. А все остальное — конструкция, чтобы этот воздух там подвесить.

Сверху: Цой, Александр Храбунов, Майк с женой Наташей, Павел Крусанов и Всеволод Гаккель у рок-клуба. Снизу: Цой, Майк и Павел Крусанов (справа) на групповом фото
Фото: предоставлено Павлом Крусановым
— Когда вы сделали выбор: стали заниматься литературой и перестали заниматься музыкой?
— Где-то во второй половине 80-х. То есть контакт с миром музыки остался, но я уже фактически перестал играть и выступать, ушел в тихую область литературы. В периодике появились первые опубликованные рассказы, с романом первым понемногу ковырялся. Роман назывался «Где венку не лечь». Он вышел на пограничье — 1989–1990 год — в московском издательстве «Всесоюзный молодежный книжный центр». Позже я немного этот роман переделал, и он выходил уже под названием «Ночь внутри».
— Были какие-то авторы, которые прям серьезно повлияли на вас как на литератора?
— Читал я очень много, причем в детстве и юности читал совершенно не так, как теперь: в детстве книгу даже не читаешь, ее проживаешь, примеряешь персонажей и события на себя. А сейчас я не проживаю книгу, а смотрю, как она сделана. Так вот, если говорить о каком-то влиянии, то надо помянуть всю русскую классику, кое-каких французов и американцев, но если говорить по существу, то сильно в плане стилистики повлияли парни из русского XX века. Из его героического периода: Замятин, Пильняк, «Серапионовы братья», молодой Тихонов, прекрасные его среднеазиатские рассказы и т. д. Из этой прозы ушел психологизм, который характерен для Золотого века русской классики, фраза стала упругой, как пружина на взводе, мускулинной, место психологической мотивации поступков героев занял рок греческой трагедии. Я хотел делать текст так же — упруго, чеканно, с минимумом психологизма.
— А вы читали советских писателей послевоенных?
— Естественно. Читал Трифонова «Нетерпение», «Старик», Владимова «Три минуты молчания», очень в свое время нравилась «Глухая пора листопада» Юрия Давыдова, радовал поздний Катаев.
— Первая публикация у вас была официальная или самиздатовская?
— Первые официальные публикации появились уже в перестроечной истории — где-то в 1986–1987 в «Роднике» и «Звезде». Перед этим был самиздат. Мы в Ленинграде силами юношеской поэтическо-прозаической группы выпускали машинописный альманах под названием «Гастрономическая суббота». Вышло порядка 12 номеров.
— Были люди, мнением которых вы дорожили, которое было важно для вас?
— Да, были. Так сказать, старшие товарищи. Тогда в Ленинграде наравне с рок-клубом существовал «Клуб-81», который объединял уже зрелых неподцензурных литераторов. Мы там в качестве молодой шпаны несколько раз выступали. Я дружил с рядом авторов, входивших в это объединение: Евгением Звягиным, Владимиром Алексеевым, Сергеем Коровиным, Налем Подольским, Олегом Охапкиным, Сергеем Стратановским. Они были, конечно, на тот момент опытнее в литературном плане, уже выписавшиеся авторы, со своим узнаваемым стилем и дыханием, а я тогда только нащупывал собственную фразу и собственный ритм. Мнение старших товарищей было для меня, вероятно, не решающим, но любопытным.
— Друг друга читали в большом количестве? Кого вы выделяли тогда из своих ровесников?
— В прозе равных себе, как и полагается в пустоголовой юности, я, конечно, вокруг не видел, а вот поэзия рядом была удивительная. Боря Беркович, он уже в 90-м году уехал в Израиль, но как поэт был очень силен. Его Топоров в свое время публиковал в сборнике «Поздние петербуржцы». Гена Григорьев — талантливейший поэт, шут и дебошир. Женя Мякишев — колоритная поэтическая фигура. Алексей Шельвах — очень интересный поэт, но он, как и Гена Григорьев, старше меня, не из разряда ровесников. Прозаики-ровесники в тесном кругу общения появились позже, только к концу 90-х — Владимир Бацалев, Илья Бояшов, Андрей Левкин и Сергей Носов. Впрочем, двое последних тоже были старше.
 Сергей Носов и Павел Крусанов
Сергей Носов и Павел Крусанов— Можно говорить, что было какое-то художественное объединение? Что были люди, которые считали себя близкими по духу?
— Да. Но это случилось на пограничье девяностых-нулевых, когда сложилась странная литературная группа под названием «Петербургские фундаменталисты». Туда входил ряд петербургских писателей, драматургов, философов, публицистов, которые, помимо эстетической близости, испытывали друг к другу еще и симпатию человеческую. Мы были дружны, нам было интересно в одной компании. Несмотря на то, что группа считалась литературной, мы порой устраивали чисто площадной балаган: проводили несусветные акции в защиту небесной корюшки, писали открытые письма президенту России с предложением воссоздать в качестве национальной мечты идею овладения Босфором и президенту Франции с предложением восстановить Бастилию, потому что ее восстановление в современных условиях — шаг гораздо более революционный, чем некогда ее разрушение. Выступали в Манеже в рамках художественных выставок, устраивали конференции на книжных фестивалях и в галереях СПб и Москвы. Большинство «петербургских фундаменталистов» публиковались в издательстве «Амфора» в серии «Наша марка». Собственно говоря, серия была запущена после того, как в «Амфоре» вышел мой второй роман — «Укус ангела». Это случилось в 2000 году.
— Что происходило с поколением писателей в 90-е?
— Это было довольно тяжелое время для текущей литературы. Пали цензурные фильтры, и открылись шлюзы, страну захлестнул информационный потоп. На книжный рынок хлынуло все, что прежде было под запретом: литература русского зарубежья, переиздания репрессированных писателей и поэтов, волна переводных детективов, фантастики, фэнтези и, конечно, Солженицын. Этот потоп смел текущую русскую литературу, целое поколение семидесятников. Их книги не увидели свет в свой час и остались по сию пору практически непрочитанными, потому что тогда, когда этот поток уже схлынул, пришли мы — молодые волки. А поколение между шестидесятниками и нами осталось не у дел. Битова и Евтушенко на литературном поле сразу сменили Пелевин и Сорокин. Удалось подать голос Маканину и кое-кому еще, а десятки авторов остались невостребованными. Ушло время, глашатаями которого они могли бы стать. В 90-е годы живая русская нежанровая литература оказалась никому не интересна — единственно, что заработало тогда в порядке импортозамещения, это издания типа русского милицейского или бандитского детектива и народившегося русского фэнтези. А вот к нежанровой отечественной литературе читатель снова почувствовал вкус только в начале 2000-х. Когда вдруг издали Пелевина и оказалось, что русская литература вполне может составить конкуренцию любой другой. Помнится, когда вышло первое издание «Укуса ангела», критики в силу инерции называли его автора не то сербским, не то болгарским писателем, поскольку просто не могли вообразить, что современный русский автор способен обрести хоть какой-то рыночный успех.
 Майк Науменко и Андрей «Свин» Панов
Майк Науменко и Андрей «Свин» Панов— А вы читали Павича до того, как вышел «Укус ангела»?
— Нет. Павича я прочитал позже.
— Как вы себя ощутили, когда прочли Павича? Потому что вас же называют русским Павичем.
— Было дело — вот, мол, вам «русский Павич»... Я не знаю, что сказать по поводу самоощущения. Сходство с Павичем можно отыскать, пожалуй, чисто по метафорике — задачи текста совершенно разные, а метафорический ряд получился конструктивно схож. Ну как на это реагировать? Все эти маркеры про «русского Павича» не столько инспирированы критиками, сколько издателями, которым гораздо проще продвигать книгу, если прилепить к ней такую вот этикеточку — «русский Кафка», «русский Маркес», «русский Борхес».
— «Петербургские фундаменталисты» — это не реакция на потоп?
— Вполне возможно, что мы при отсутствии широкой читательской аудитории искали и находили поддержку друг в друге. Почему нет? Попутно выходя в сферу «позитивной шизофрении», как говорил Курехин, и политического балагана.
— Это тоже ведь было совершенно не модное заявление, которое вы делали?
— Это было заявление, опережающее время. Возврат имперскости в практику русской жизни, сегодня открыто заявляемый с любых площадок, тогда воспринимался в штыки на всех уровнях. И это, если хотите, был настоящий авангард. Вспомним реакцию на первого «Брата» — фашизм, рык из пещеры, поступь имперского сапога и т. д. и т. п. Но в итоге оказалось, что Балабанов нащупал живой нерв времени, и теперь «Брат» — классика русского кинематографа.
— Можно ли говорить, что Петербург как-то географически, архитектурно, топографически влияет на авторов, делает их, так сказать, более правыми, более имперскими, более державными?
— В филологической среде с конца пятидесятых годов прошлого столетия бытует такое понятие «петербургский текст русской литературы». Имеется в виду особое мифопоэтическое пространство, существующее в культуре и прочно связанное с топосом. В двух словах: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, Белый и ряд последующих авторов создали определенную систему зеркал. Город, отраженный Пушкиным, отражается Достоевским уже с учетом державного Медного всадника и маршрутов обреченного бегства бедного Евгения. И так далее, вплоть до того, что на карте города появляются адреса персонажей — Раскольникова или старухи-процентщицы, — реально никогда по этим адресам не живших. Не знаю, придает ли этот феномен какие-то особые качества Петербургу, но что можно сказать точно, так это то, что за последние 300 лет, прошедшие с его основания, все континентальные европейские столицы сдавались на милость победителя, будь то Наполеон или Гитлер, а на землю Петербурга ни разу не ступала нога супостата. Город, построенный как оплот и столица империи безусловно будет влиять на чуткую личность художника, в нем живущего. Как ни странно, если во времена, скажем, предшествующие историческому материализму именно Москва считалась консервативным центром, а Петербург казался более подверженным европейским веяниям и либеральным идеям, то в постсоветский период все поменялось — консервативным сделался Петербург. А Москва раскляксилась под сквозняком либеральной мысли.
— Между первым романом и вторым прошло 8 лет. Чем вы занимались в эти сложнейшие 90-е годы?
— Всем понемногу. Работал осветителем в театре, садово-парковым рабочим, печатником офсетной печати, инженером по рекламе, лаборантом в театральном институте. Выживали, кто как мог.
— Для меня «Укус ангела» был откровением. Это было событием, которое изменило вашу жизнь? Оно как-то повлияло на вашу позицию как литератора?
— На позицию литератора, наверно, никак не повлияло. В противном случае из-под пера полетели бы сиквелы и приквелы — «Укус ангела-2» и так далее. А этого не случилось. Авторское кредо осталось неизменным — нужно каждую новую книгу делать так, будто ничего до этого тобой написано не было. Однако успех этой книги позволил мне определиться с тем родом деятельности, которым я занят до сих пор. Я имею в виду работу в издательстве. После успеха книги — за год было продано 4 тиража — меня пригласила «Амфора» вести серию современной русской литературы «Наша марка». С тех пор я так по разным издательским проектам и шарахаюсь.
— «Укус ангела» — консервативный роман?
— Когда формировался замысел, мне было интересно проанализировать само понятие имперского сознания: что, как и почему. Где предел имперской экспансии на той карте, которая прочерчена в нашей голове, и есть ли вообще такой предел. В результате опытным путем на литературном полигоне выяснилось, что финал империи наступает тогда, когда пропадают границы. Отсутствие внешнего врага — это ужасно. Империя начинает пожирать сама себя. Ну и попутный эксперимент: хотел выяснить, возможно ли написать роман, в котором не будет ни одного положительного героя.
— Наверно, с большой натяжкой можно назвать «Укус ангела» историческим романом. С очень большой натяжкой. В наше время все литераторы вдруг обращаются к истории. Почему эта волна минует вас?
— Не нахожу в себе силы заглядывать за границы того времени, которое лично пропустил через себя. Хотя в романе «Ночь внутри» такая попытка была. Второй не предпринималось. Возможно, причина в опасении сфальшивить. Как в музыке. Эта фальшь, возможно, будет незаметна читателю, но внутри-то я буду знать, что дал не чистый звук, не тот, который предполагалось извлечь.
— Как вы считаете, то, что делали вы на границе XXI века, в конце 1990-х — начале 2000-х, повлияло на общество? Нашло какие-то отклики? Или было забыто?
— Мне хочется думать, что отклик был. Ведь литература — не просто игра в слова и смыслы, она наследница вербальной магии, магии заклятия. Только в случае литературы чудо, которое она наговаривает, — особого свойства. После прочтения талантливой книги преображение происходит не снаружи, а внутри тебя. В результате, хотя бы и на время, но ты делаешься другим, и через тебя чуточку преображается окружающая реальность.
— Почему «Страх» Постнова — которого вы открыли как редактор, — чудесная книга, не оказал большого влияние на дальнейшее развитие русской литературы?
— Дело в том, что Постнов сознательно пытается развивать ту линию в русской литературе, которая в ней должным образом почему-то не укоренилась. Хотя прививка была серьезная. Я имею в виду готический роман, нуар, ту гоголевскую линию, которая, увы, не сложилась в школу. В отличие от Пушкинской линии, из которой берут начало наши корифеи — Толстой и Достоевский, Гончаров и Тургенев. Постнов практически во всех своих текстах выступает приверженцем готики — я имею в виду «Поцелуй арлекина» и «Антиквара». Почему нет последователей — ума не приложу.
— Коль вы работаете в издательствах, занимаетесь, в том числе, отбором новых авторов, кого вы могли бы назвать из писателей, которые могли быть прочитаны, заслуживают большего внимания, но не получили его в 2000-х, до 2010 года?
— Да вот тот же Олег Постнов, например. Совершенно очевидно, что это не прочитанный до сих пор автор, у него есть прекрасный «Антиквар» — великолепная, просто бешеная вещь. Мне казалось до какого-то времени, что останется непрочитанным Илья Бояшов, но, после того, как он стал лауреатом Нацбеста, читатель, слава богу, обратил на него внимание. Вовремя не получил свою аудиторию Марат Басыров — у него есть две отличные книги «Печатная машина» и «ЖеЗеэЛ». Не так давно Басыров умер. Жаль, если медаль так и не найдет героя.
— Кого вы читаете и цените из современных авторов, без разделения на Питер и Москву?
— Владимир Шаров, Сергей Носов, Прилепин, Татьяна Москвина, Фигль-Мигль, Олег Постнов. Хорош «Лавр» у Водолазкина. Недавно я неожиданно для себя открыл Валерия Айрапетяна. Я знал, что у него выходили какие-то книжечки клубными тиражами, но все не удосуживался прочитать. А тут прочитал и очень обрадовался — и за него, как за писателя, и за себя, как за читателя. Еще — Снегирев, Авченко, Левенталь, Етоев, Мелихов, Буйда... И да простят меня те, кого я в этот миг упомянуть забыл.
— Ваше коллекционирование жуков необычно. Любовь русских литераторов к насекомым заслуживает отдельной главы: Набоков, Проханов, вы.
— Аксакова забыли. У него даже была книжка о ловле бабочек в такой-то местности, где располагалось его имение, и составлении коллекции.
— Жуки довольно экзотическое хобби.
— Мне кажется, в русской литературе достаточно любителей бабочек. Пора уделить внимание и жукам. Эрнст Юнгер, кстати, коллекционировал жуков. И не такая уж это экзотика — в сети полно форумов, где общаются коллекционеры этих замечательных созданий. Пристрастие к жукам я испытывал с детства, когда никакого понятие ни о Набокове, ни о Проханове, ни о Юнгере еще не имел.
 Инсталляция из коллекции Павла Крусанова
Инсталляция из коллекции Павла Крусанова— Ваш роман «Яснослышащий», который вышел только что, — роман совершенно пифагорейский. Это ваша «дань» музыкальной юности?
— Совершенно верно. Дело в том, что опыт проживания того времени, когда погруженность в музыку была практически абсолютной, я ни разу не использовал в качестве литературного материала. Я никогда до «Яснослышащего» не писал ни о музыке, ни о музыкантах. В жанре non-fiction — было. В сборник «Беспокойников города Питера» я написал несколько очерков о идолах поколения — Цое, Майке, Свине, Курехине, но в художественном тексте — ни-ни. Все откладывал, откладывал, ну а тут решил — хватит. Это же такая богатая тема — музыка. Сама по себе музыка, музыка как идея. В результате сложился «Яснослышащий».
— А вы писали сценарии, как многие современные литераторы?
— Нет, мне всегда казалось, что это разные профессии — писатель и сценарист. Несколько раз мне предлагали сделать по тому или иному своему роману инсценировку для театра, но, чтобы браться за это, нужно выучить кое-какие уроки. В случае театра — знать законы сцены, в случае кино — знать законы кадра. Понимать, сколько времени должна длиться каждая сцена и что в каждой сцене должен быть конфликт. Конечно, все это можно освоить. Если бы у меня не было неотложных текущих дел всякий раз, когда мне предлагали делать инсценировки, возможно, я бы и взялся за работу.
— А вас как редактора не раздражает сценарность, когда огромное количество книг пишутся как готовый сценарий?
— Нет, не раздражает. Если текст мне не нравится, я его закрываю, будь то книга или рукопись, и больше о нем не думаю. Не даю ему повод вызвать во мне раздражение.
— Где вам как писателю пишется лучше всего?
— На Псковщине, в сельской идиллии, которая на самом деле никакая не идиллия. Там есть определенная неустроенность типа удобств во дворе и отсутствия душа, могут на полдня вырубить электричество, но там я за один и тот же интервал времени все равно делаю раз в пять больше, чем в городе. С удовольствием выезжаю в глушь, на природу, потому что как правило быстро доделываю там то, что здесь долгое время откладывалось. К тому же, помимо кабинетной работы, там жизнь: птицы щебечут, косули ходят, кабаны роют землю рылом.
— Вы же городской?
— Я родился в городе, вырос в городе, но я понимаю и люблю дикую природу. Мне совершенно не интересна, скажем, урбанистическая Европа. Если ребром встает вопрос ехать в Париж или ехать на Алтай, я еду на Алтай. Или в Туркмению. Или еще в какие-нибудь пустыни или какие-нибудь дебри. Тут еще, конечно, дело в жуках. Что можно поймать на Елисейских Полях? Даже в прежние времена — только стыдную болезнь. Другое дело сельва в верховьях Амазонки или джунгли Вьетнама. Там дикая жизнь разбегается из-под ног, лупает глазом из зеленого сумрака и брызгами сверкает в воздухе. Я в этих поездках «собираю» джунгли, они мне интересней ледяной Исландии или фьордов Норвегии.
— А вы были в Исландии?
— Нет, не был. Там север, холод, хотя есть и оазисы тепла, благодаря горячим источникам, но жуки-то об этом не знают. Это бедная фауна. Да и что там может быть? Это же вулканический остров, когда он поднялся из океана, там ничего не было. Перелетные птицы, тюлени — да, а насекомые-то откуда? Им надо суровые просторы Атлантики преодолеть. Так и в горах есть определенные зоны, за которыми ни растительности, ни насекомых уже нет, и нет жизни вообще.
 Павел Крусанов с ламой и перуанкой
Павел Крусанов с ламой и перуанкой