— Перед тем как переходить к содержательному разговору, давай начнем с формального аспекта. Чем, собственно, продиктована необходимость возрастных маркировок на книгах, в том числе вашего издательства?
— Уже много лет существует 436-ФЗ, согласно которому нужно маркировать книги определенными возрастными категориями. Он дает возможность всем, кто увидит ту или иную книгу и сочтет ее неподходящей для указанной категории, создать издателю некоторые проблемы, осложнить ему жизнь. Например, в случае, когда присутствует маркировка «16+», а сексуальная сцена в книге, по мнению читателя, показана не отстраненно, а с некоторым любованием. Давайте уже определим градусы любования, это нас надолго займет. Каких-то невероятных скандалов, связанных с маркировками, не было, но все равно это повышает нервозность. Издатели то и дело ждут, что в каком-нибудь спорном случае на них как минимум набросятся родители в интернете, а книгу перестанут выдавать в библиотеках, как максимум — привлекут к чему-нибудь.
— Какой вообще смысл в разработке этой системы маркировки, помимо абстрактной борьбы «за детей» и бюрократии ради бюрократии?
— Отчасти, я думаю, это была попытка вместить детскую литература в некие рамки — как в Советском Союзе, когда все четко распределялось по возрастам и книжка в принципе не выходила, если на ней не было указано, для какого возраста она рекомендована. С другой стороны, это и некоторое следование современным рыночным законам, когда поток книг в крупных городах (точнее, в двух, где книжки активно выходят) довольно велик и маркировки облегчают жизнь родителям. Они приходят в магазин — все яркое, всего много. Смотрят на маркировку — вроде книжка сойдет, а если не сойдет, поругаемся. Вот один из отзывов, который я цитирую почти дословно: «У коровы вашей вымя нарисовано, как же можно ставить маркировку „0+“»
Это все забавно, но не забавно, что из-за таких возгласов, отсылающих к статьям в законодательстве, книгу могут вернуть издательству из магазинов, кто-то может куда-то пожаловаться... Вымя у коровы не понравилось, злая ведьма в сказке не понравилась, кто-то посчитал сцену слишком эротичной для книги «16+». То, что призвано быть рекомендацией, выглядит инструментом некоей причудливой неоцензуры. И в конечном итоге все равно получается бюрократия ради бюрократии.
— Это если мы говорим о конкретном ФЗ и вообще о текущих реалиях. Но ведь сама идея о возрастном ранжировании литературы возникла гораздо раньше и вряд ли преследовала в прошлом те же цели, что сейчас.
— Лично мне кажется, что читающими людьми ранжирование всегда воспринималось как что-то весьма условное. Все равно все всегда читали книги вразнобой. Ну понятно, что существовала эта градация: «для младшего, для старшего школьного...». Она, кстати, и сейчас вернулась, называется возрастной рекомендацией, иногда ставится в книжках вместе с маркировкой, и хорошо, когда они совпадают, а то опять кто-то будет негодовать... Так ли уж отличаются в этом смысле наши времена от прошлых?
К слову, многие книги, которые когда-то были написаны исключительно для взрослых (классические примеры — Даниэль Дефо с Робинзоном Крузо и Джонатан Свифт с Гулливером), перешли в разряд детского чтения. Понятно, что не в том виде, в каком были написаны, понятно, что сокращались и пересказывались. Это важный феномен. В «Гаргантюа и Пантагрюэле», например, Заболоцкий порядком редуцировал раблезианство. Даже такие вещи, как традиционные сказки Андерсена, не избежали этой участи. В советское время они были переработаны, упрощены, из них исчезли воспитательные моменты с христианским оттенком. Ну то есть их, условно, перевели из статуса «18+» в дошкольный. Когда читатели наконец столкнулись с восстановленным Андерсеном, восхитились далеко не все: там оказалось много моральных наставлений, упоминаний о Боге и так далее.
— То есть в советское время массовому читателю скорее все же оказали услугу, переработав Андерсена? Как вообще была устроена эта система во времена СССР?
— С Андерсеном — пожалуй, его переработали так, что эти варианты до сих пор выглядят актуальными. А в советское время, по мнению некоторых исследователей, вообще возник феномен детской литературы как потока. В 20–30 годы была поставлена государственного уровня задача — готовить будущие поколения коммунистов при помощи идеологически верных книжек. Для понимания полезно почитать критику соответствующего периода. Она всегда была зубастой, но если в 20-е годы, в период НЭПа, тебя ругали, но ты мог существовать дальше (журналы Маршака закрывались, но он придумывал новые), то в 30-е после критического выпада у тебя могла предельно осложниться жизнь. Критика при этом была не очень-то изобретательной: эта книжка слишком буржуазная, эта слишком отсталая, еж нарисован непохоже (это о Чарушине, если что) и так далее.
Так вот, жизнь могла осложниться, но не всегда. Или не всегда сразу. Например, я недавно читал критику в адрес Введенского, и после этого чтения мне было непонятно, как его книги вообще выходили. В 1937 году в паре номеров журнала «Детская литература» его гвоздят с особой силой... Типичное обвинение заключается в том, что вместо нормальной литературы он подсовывает советским детям дореволюционные сказочки про каких-то девочек с куклами. «Вы что, хотите, чтобы наши дети вырастали буржуазными кисейными барышнями? Вы халтурно подходите к работе, товарищ Введенский!», и все примерно в таком духе. При этом книги выходили и выходили. До тех пор пока Введенского физически не стало.
Кстати, именно он пересказал немало сказок братьев Гримм. Чуть выше мы говорили об Андерсене, а вот немецкие сказки несколько поколений советских детей воспринимали как раз в переложениях Введенского, даже если не знали имени этого поэта.
Из тех времен происходит и разделение по возрастам. Постепенно оно усложнялось, советский период был длинным и разным, и ко времени «застоя» многое превратилось в некий ритуал: едва ли кого-то могли сослать, но книжка просто не вышла бы без соблюдения всех формальностей. Все к этому привыкли, художники рутинно изображали пионеров, но рисовали при этом замечательно, а писатели сочиняли совершенно удивительные сказки. Вообще семидесятые — это время абсолютного расцвета советской сказки, как и время ухода в некую параллельную реальность. В тридцатые такого двоемирия не было, просто не могло быть: все были на виду у всех.
— Как я понял, первая книга, которую ты предлагаешь рассмотреть в этом контексте детской/взрослой литературы, — это именно сказка. Правда, написанная не в Советском Союзе, но имеющая к нему непосредственное, скажем так, отношение.
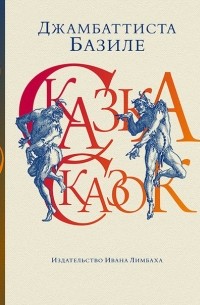 — Да, «Скотный двор» традиционно считается взрослой (в самом крайнем случае, подростковой) книгой, но мало кто помнит, что у нее есть и вполне конкретное жанровое определение — сказка. Конечно, сказка это особенная, она выбивается из наших представлений. Ведь что такое, в принципе, сказка? Ко времени Оруэлла в европейской традиции сложилось ее понимание: нечто предназначенное для детского чтения. Но изначально сказка — сложная, трудноопределяемая вещь. Сравнительно недавно в издательстве Ивана Лимбаха вышел том Джамбаттисты Базиле — теперь считается, что он вообще первым приступил к литературной обработке сказочных сюжетов. Это довольно жуткое чтение, там даже условно положительные герои не задумываясь идут на убийство — мне, например, запомнился образ Золушки, которая хочет избавиться от мачехи, стремясь насмерть пристукнуть ее крышкой сундука. Все это сильно отличается от того облика сказки, который сложился через полторы сотни лет.
— Да, «Скотный двор» традиционно считается взрослой (в самом крайнем случае, подростковой) книгой, но мало кто помнит, что у нее есть и вполне конкретное жанровое определение — сказка. Конечно, сказка это особенная, она выбивается из наших представлений. Ведь что такое, в принципе, сказка? Ко времени Оруэлла в европейской традиции сложилось ее понимание: нечто предназначенное для детского чтения. Но изначально сказка — сложная, трудноопределяемая вещь. Сравнительно недавно в издательстве Ивана Лимбаха вышел том Джамбаттисты Базиле — теперь считается, что он вообще первым приступил к литературной обработке сказочных сюжетов. Это довольно жуткое чтение, там даже условно положительные герои не задумываясь идут на убийство — мне, например, запомнился образ Золушки, которая хочет избавиться от мачехи, стремясь насмерть пристукнуть ее крышкой сундука. Все это сильно отличается от того облика сказки, который сложился через полторы сотни лет.
Новалис — теоретик и практик романтизма — определял сказку как возвышенный жанр, с помощью которого поэт может выразить себя наилучшим образом, но и это не совсем то, к чему мы привыкли. Знакомое нам понимание формируется только ко времени Андерсена. А Оруэлл со «Скотным двором» как будто откатывается далеко назад: у него и сказка, и памфлет, и притча, даже агитка. Он вернул жанру его изначальную сложность, аморфность, неопределимость. Как и вдохновенное поэтическое произведение, сказка тут не предполагает четкого одномерного прочтения.
— Но при этом традиционно «Скотный двор», как, в общем, и «1984», понимается максимально одномерно — во всяком случае, если посмотреть на его бытование в масскульте, с которым ничего не поделаешь.
— После «Скотного двора» и «1984» Оруэлл стал считаться автором книг, критикующих социализм. Он якобы пришел к этому в конце жизни, и за это его активно упрекал Лимонов: мол, предал социализм, сломался, его произведения стали использоваться буржуинами и так далее. Но все сложнее. Оруэлл начинал с критики буржуазного общества, был социалистом и, когда сражался в Испании, понял, к чему ведет сталинизм, для него это стало ужасным открытием. Люди, пришедшие из СССР, не поддержали тех, на чьей стороне сражался Оруэлл, объявили их троцкистами — это стало началом целой череды разочарований.
Но проблема ведь не в том, что социализм оказался плох сам по себе — просто то, что начиналось как освобождение от капитализма, превратилось в его подобие. Взрослому человеку было бы очень интересно перечитать «Скотный двор» в этом контексте. Я, когда перечитывал, вспомнил мысль французского неогегельянца русского происхождения Александра Кожева, который полагал, что СССР — это в сущности перелицованная буржуазия. Вот и бедные звери в конце уже не могут отличить лицо угнетателя-свиньи (прежнего освободителя) от морды угнетателя-человека.
В этом смысле «Скотный двор» — настоящий кошмар, потому что выбора нет: просто есть некая штука, которая называется тоталитаризм, и она может возникнуть при любых формах политического устройства. Причем негативный контекст этого слова стал общепринятым только после Второй мировой, а ведь введено понятие было как позитивное: «тотальное государство» звучит так возвышенно. Ханна Арендт исследовала феномен тоталитаризма на примере нацистской Германии и СССР не только для того, чтобы доказать, что каждое из этих обществ дурное: цель была и в том, чтобы обезопасить общество западное от нового тоталитарного витка. В целом, «Скотный двор», по-моему, даже критикует власть как таковую — подобный взгляд не предполагает света в тоннеле, но хотя бы указывает на плачевное положение многих дел.
 — Есть еще одна книга со сходной, кажется, судьбой, и в отношении нее ни у кого не возникает сомнений насчет «сказки», потому что это «Чиполлино». По совпадению, я буквально за день до этого разговора наткнулся на тред, в котором предлагалось вспомнить зарубежных писателей, известных у нас, но забытых на родине, и очень многие в этом смысле сходились на кандидатуре Родари.
— Есть еще одна книга со сходной, кажется, судьбой, и в отношении нее ни у кого не возникает сомнений насчет «сказки», потому что это «Чиполлино». По совпадению, я буквально за день до этого разговора наткнулся на тред, в котором предлагалось вспомнить зарубежных писателей, известных у нас, но забытых на родине, и очень многие в этом смысле сходились на кандидатуре Родари.
— Родари был коммунистом, причем довольно рьяным, ведь его родственники сидели в концлагерях. Я тоже встречал точку зрения о том, что у нас его помнят только замшелые коммунисты, а в Италии его упоминание может быть встречено негативно. Признаюсь, я не в курсе насчет всех подробностей, но вот, например, детская писательница Настя Строкина говорит, что все не так и отношение в Италии к нему хорошее. А у нас? У нас его многие просто связывают с коммунизмом и уже поэтому относятся или настороженно, или, наоборот, ностальгически. Но есть ли в этой постоянной связи большой смысл? Посмотрите на «Чиполлино». Все, казалось бы, просто: плохие правые ребята всем руководят, а левые угнетенные овощи и фрукты с ними борются, и все кончается победой хороших. Но возможно, что эта сказка вообще лучшее из того, что он написал. Уж точно лучше, скажем, «Путешествия Голубой Стрелы», а стихи у него совсем скучные...
— А что в них такого уж плохого? «Путешествие Голубой Стрелы» мне в далеком детстве нравилось гораздо больше, чем «Чиполлино», потому что антропоморфные овощи на картинках очень раздражали. А вот стихов нам его в детстве, кажется, вовсе никто не читал — ну не считая «Чем пахнут ремесла».
— Со стихами, на мой взгляд, так: бич коммунистической (и конкретно советской) детской поэзии в том, что очень часто она была предельно назидательна — по мне и Маяковский в этом отношении скучен. Родари же, в том числе и как поэта, интересно оценивать именно по «Чиполлино». Конечно, дело вкуса, но лично мне эта сказка нравится больше «Голубой Стрелы». Хорошие образы, простые и очень остроумные приемы. Правда, его критики в России часто говорят, что книга стала лучше благодаря переводчикам. Классический перевод «Чиполлино» выходил под редакцией Маршака. Он действительно высококлассный. У нас в детскую литературу вкачивались большие деньги, это был отличный способ заработка, и в этой сфере работали непревзойденные специалисты.
Как работала машина советской детской литературы, можно судить хотя бы по тому, что тот же Маршак, Чуковский и Барто — до сих пор самые продаваемые детские поэты в России. Их покупают по старой доброй памяти, потому что тиражи в свое время были просто немыслимые и многократные. Вот и «Чиполлино» завоевал поколения советских и постсоветских детей. Но ориентируясь на слова осведомленных людей (например, упомянутой Насти Строкиной), могу сказать, что есть немало нюансов. Например, при переводе был упущен целый фрагмент, причем такой, в котором трудно было заподозрить (анти)идеологическую подоплеку. Он просто показался лишним, и все. И есть еще много мелочей: например, у Родари усы Лука-Порея «бесконечной длины», а в переводе они просто длинные, хотя именно через такие вот «усы» можно было бы получить некое представление о языке Родари-поэта — уж точно не в меньшей степени, чем через «Чем пахнут ремесла».
— Когда мы говорим, что «Чиполлино» — книга не детская или не только детская, первый уровень рассуждений понятен: это политическое высказывание, которое считывается ясно (иначе бы детские спектакли не запрещали). Есть ли тут о чем порассуждать помимо этого очевидного мотива?
— С самой фигурой Родари все не очень просто. У нас он встроился в тот же поток, что и упомянутые Маршак и Барто с Чуковским, и его стали и в хвост и в гриву публиковать. Но мы даже не можем точно сказать, как он сам относился к тому, что мог увидеть в СССР. Четкого ответа нет, мы находимся в области мнений, а не знаний. А в СССР он путешествовал регулярно: в интернете можно, например, найти истории о его приездах в Краснодар, отзывы воспитателей и детей из детского лагеря о нем. У воспитателей был шок: детей выстроили, дети должны задавать правильные вопросы. И тут Родари спрашивает у мальчика: «А ты знаешь, что такое колхоз?» И библиотекарша вспоминает примерно так: «Господи, какой ужасный вопрос, только бы мальчик не ляпнул лишнего». Но ребенок отвечает как надо, потом следует еще несколько подобных вопросов, и, когда все это заканчивается, с несчастной библиотекарши сходит семь потов. Мы не знаем, может, у него в глубине души тоже был свой Оруэлл, во всяком случае, интересно так думать. Дети в Краснодаре спрашивали его: «А какие вы классы хотели в Чиполлино изобразить?» — а он говорит, что это вообще не про классы, а про людей просто. «Ушел от ответа», — негодует библиотекарша. А мне не кажется, что он ушел, я думаю, что история, описанная в «Чиполлино», может быть, в чем-то схожа со «Скотным двором»: ребята типа синьора Помидора могут в прошлом оказаться и неплохими овощами, превратившимися бог знает во что.
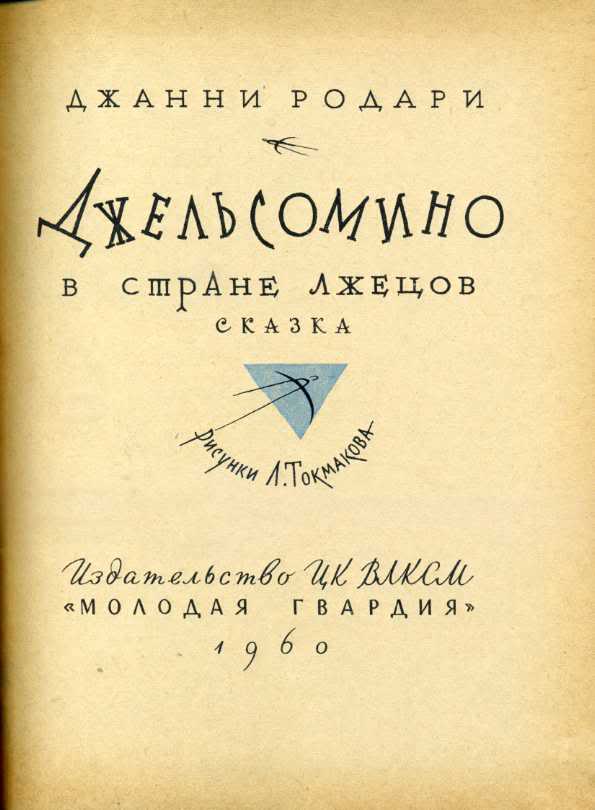 — Но, как я понимаю, никаких явных свидетельств того, что Родари разочаровался в СССР, нет.
— Но, как я понимаю, никаких явных свидетельств того, что Родари разочаровался в СССР, нет.
— В сущности, нет, но есть мнение, что не случайно «Джельсомино в стране лжецов» появился после путешествия в СССР. А во время последнего своего визита Родари вообще решил попреподавать детям, а потом написал, что дети у вас зажатые, и испортил всем настроение. Кстати, вообще-то Родари до конца дней хотел написать вторую историю про Чиполлино. Интересно, каким бы этот второй «Чиполлино» оказался. Впрочем, первого в любом случае совершенно не следует сбрасывать со счетов. Эта книга — как и многие другие, выпущенные в те времена, — до сих пор представляет собой некий эталон для русскоязычных авторов. Маршак, конечно, был вездесущим, но ведь при этом он был и высочайшим профессионалом, и таких людей в детской литературе тогда хватало. И немало жемчужин можно было найти в море, казалось бы, унылых идеологизированных книг — «Чиполлино» точно в их числе.
Кстати, совсем недавно в издательстве «Белая ворона», где я тружусь, вышел том пьес Родари. Детские пьесы вообще редкость, что очень досадно, надо исправлять положение. Но вдобавок у Родари там много наиклассических итальянских персонажей: героев комедии дель арте. Так что это просто хорошие итальянские детские пьесы, а коммунизм там еще надо поискать.
И совсем уж напоследок: я бы рекомендовал перечитывать «Чиполлино» с иллюстрациями Михаила Майофиса. Мало того, что он умопомрачительный рисовальщик, интересна и его трактовка образа главного героя, не вполне каноническая.
— Две книги, о которых мы поговорили, находятся на грани «детской» и «взрослой» литературы по причине того, как интересно сочетаются их жанровая принадлежность и заложенный в них политический посыл. То есть предельно понятно, почему мы вообще о них говорим. А вот дальше сложнее. Например, выбранная тобой книга Константина Сергиенко «Кеес Адмирал Тюльпанов» — это же, насколько я понимаю, просто историческая повесть для подростков.
— Да, и сегодня она, пожалуй, относительно забыта, потому что в наши дни Константин Сергиенко — малоизвестный автор. Да и раньше не все его книги выходили достойными тиражами. У меня в руках второе издание восьмидесятого года (первое вышло в 75-м), так вот его тираж — всего сто тысяч экземпляров. Смехотворно по тем временам! А между тем эта книга — и правда превосходный пример подростковой исторической повести. События происходят в Нидерландах во время борьбы за независимость. С точки зрения советской историософии это было самое правильное время: гнусные испанцы-империалисты против свободолюбивого нидерландского народа. Правда, я как советский ребенок до определенного момента не слишком-то подозревал, что жители Нидерландов, победив в той войне, сами стали буржуинами — это была самая богатая страна Европы, которая долго давала всем прикурить, пока ей самой не наподдали, скажем так, за жадность. Но герои книги — все как один благородные, прекрасные, простые ребята, как ты да я, именно в этом и был посыл: пусть они жили в XVI веке, мы легко узнаем эти типажи.
 — То есть идеологический подтекст тут все же есть. Но ведь ты на этой книге сфокусировался не для того, чтобы поставить ее в один ряд с «Чиполлино» и «Скотным двором»? В чем ее специфика в контексте нашего разговора о детском и взрослом?
— То есть идеологический подтекст тут все же есть. Но ведь ты на этой книге сфокусировался не для того, чтобы поставить ее в один ряд с «Чиполлино» и «Скотным двором»? В чем ее специфика в контексте нашего разговора о детском и взрослом?
— Тут вот что интересно. Множество факторов в советское время работало на то, чтобы писатель, если уж он сумел им стать, мог заниматься только писательством. То есть у тебя будет очень много времени, чтобы собрать материал и написать книжку. Сергиенко прочел сотни источников, и вот эта штука про понятных и простых ребят — это, пожалуй, единственный фантастичный элемент во всей книге, а все остальное — совершенно органично вплетенные в повествование бесчисленные свидетельства и факты из жизни Нидерландов того времени. Обычный башмак тут будет называться именно так, как назывался в то время и в том месте. Книга до такой степени была насыщена реалиями, что прочно утвердила Сергиенко в статусе ответственнейшего автора исторических повестей: довольно скоро он написал книгу про Бородинскую битву, потом и другие. У него есть и несколько загадочные произведения, где сквозит атмосфера советского заката: например, в восьмидесятые он создает повесть о любви школьницы и довольно взрослого мужчины. Совсем уж «Лолиту» мы там, конечно, не найдем, но тем не менее это интересное преломление. К слову, любимым писателем Сергиенко был Генри Миллер. А еще у него есть повесть «До свидания, овраг», самая, может быть, известная. Абсолютно печальная и беспросветная история о бродячих собаках.
Так вот, возвращаясь к специфике книги. По долгу службы я много работаю с переводными текстами в издательстве «Белая ворона». Там активно переводятся и выпускаются современные скандинавские авторы, и даже если их произведения не какого-то космического мегауровня, они всегда будут как минимум хорошо сделаны. А у нас этот навык — регулярно, крепко и качественно писать для детей — ослаб, плюс фактически прервалась традиция создания интересных исторических повестей. Хорошо, что в детской литературе появился тренд историй о детях с теми или иными особенностями развития, хорошо, что назревают, если еще не назрели темы феминистические. Но мы совсем забыли, что могут быть и отличные научно-художественные книги. И когда-то мы их не переводили, а писали сами, и очень хорошо писали. Из авторов исторических повестей есть, например, Бахревский, автор советской закалки, но его тексты, увы, современного читателя едва ли захватят. Сергиенко все же куда динамичнее. И конечно, его повести для подростков могут читать и взрослые. Не только ностальгирующие, но и те, кто в принципе интересуется историей литературы и озабочен перспективами ее развития.
 — Иначе говоря, она может быть интересна взрослой аудитории не столько содержательно (про историю Нидерландов, наверное, лучше прочесть что-нибудь научно-популярное), сколько в плане того, как эта книга сделана и сконструирована? Про «Похищение в Тютюрлистане» Войцеха Жукровского можно то же самое сказать? Я помню мультфильм по ней, он мне казался довольно замысловатым.
— Иначе говоря, она может быть интересна взрослой аудитории не столько содержательно (про историю Нидерландов, наверное, лучше прочесть что-нибудь научно-популярное), сколько в плане того, как эта книга сделана и сконструирована? Про «Похищение в Тютюрлистане» Войцеха Жукровского можно то же самое сказать? Я помню мультфильм по ней, он мне казался довольно замысловатым.
— Действительно. Вообще-то Войцех Жукровский — автор серьезных романов для взрослых, один из которых, например, экранизировал Анджей Вайда. А вот по его «Похищению в Тютюрлистане» сняли мультфильм. Он мне в детстве очень нравился, там такой несколько шаблонный сказочный сюжет с похищением принцессы. Необычно было присутствие вставных новелл — основное повествование выполняло роль увесистой рамки, в которую встраивались другие занятные сюжеты.
То есть Жукровский решил написать детскую книгу, но при этом с явной аллюзией на плутовские романы XVI-XVII веков. Тогда было полным-полно текстов, где фигурировало большое количество сюжетных вставок. Позже появились и полупародийные примеры — в той же «Рукописи, найденной в Сарагосе» другой польский автор Ян Потоцкий очень умело использует схожий прием, и, читая, мы на каком-то этапе даже перестаем понимать, в каком месте лабиринта вставных сюжетов находимся. У Жукровского все не так запущенно, но отсылка прослеживается четко — старая литературная традиция проявляется на новом этапе, и это очередная часть разговора, как взрослое превращается в детское.
— Ну такого рода преемственность, как я понимаю, очень и очень во многих книгах можно найти.
— Дело не только в этом, есть еще один момент. Если эту книгу кто-нибудь сегодня задумает переиздать — ему придется всерьез поразмыслить. Во-первых, в ней довольно много жестокости. Например, у козла отрубают рога. Не просто так, конечно, а за предательство, но все равно: если сегодня родители встретят такое в детской книге, они наверняка бурно возмутятся. Козел, кстати, после экзекуции становится законченным мерзавцем — к вопросу о целесообразности жестоких наказаний. Далее, кота пытают. Причем по-серьезному, не просто припугнули дыбой. Но хуже всего, что главные отрицательные герои в этой книге — цыгане. Мужчина, женщина и маленький мальчик. Все они — отпетые негодяи. Читал и думал: ну, может, автор оставит хоть какую-то лазейку, может, хоть в каком-то смысле кто-то из них окажется хорошим. Но нет, все гады. Мало того, что проблемы со словом «цыгане» сегодня начинаются уже на уровне самого его употребления, так мы еще и имеем дело с безнадежно отрицательными персонажами. И это, конечно, никуда не годится.
Лично мне эта книга может быть интересна как давно не переиздававшееся произведение, которое тем не менее известно в профессиональной среде и с которым связана очень характерная примета времени. При попытке переиздать ее я столкнусь со множеством вещей, которые заставят меня десять раз подумать, стоит ли игра свеч. Прогрессивные люди книжке шанса не дадут, отправят в музей анахронизмов. Я оставлю приоткрытым вопрос, что все это значит: стали ли мы более развиты, стали ли лучше или наоборот (полагаю, ответ где-то посередине) — но сам факт изменений очень интересен и важен. И старенькая книжка на него отчетливо указывает.
— Если о предыдущих книгах я слышал хотя бы что-то, то «Горожане Солнца» Ильи Боровикова — это, откровенно говоря, совершенно новое для меня название. Даже после того, как я попытался погуглить информацию об этой книге, у меня не возникло никаких предположений по поводу того, как она может встраиваться в наш разговор о детскости и взрослости. Что это вообще такое?
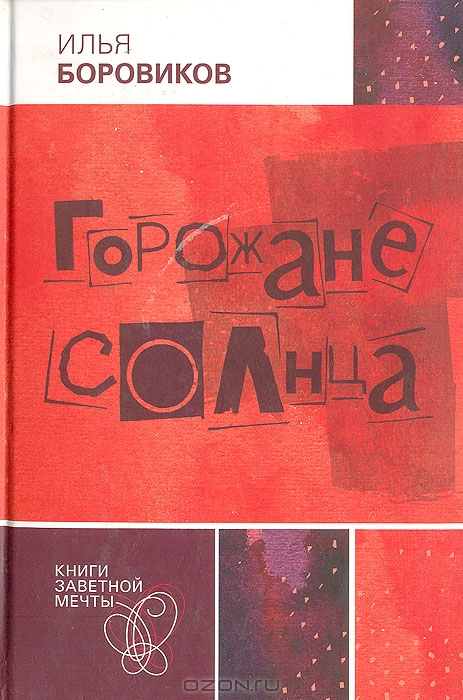 — Эта книга победила в 2007 году на конкурсе «Заветная мечта». По-моему, это очень важное в контексте разговора произведение. Но перед тем как к нему перейти, скажу пару слов о проблемах современной детской литературы как таковой. По крайней мере, как я их представляю. Например, это некая возрастная «заданность». Если я сегодня сочиню книжку для моего внутреннего ребенка, но все же не совсем простую — мне придется крепко помучиться, предлагая ее какому-либо издательству. Меня первым делом спросят, для какого возраста я ее писал. Сегодня приходится предельно четко ориентироваться на конкретную аудиторию. Невозможно писать книги так, как написаны некоторые классические и любимые миллионами произведения — например, тот же «Маленький принц» (хоть лично мне он и не очень нравится). Если в условиях современного российского рынка появится свой Экзюпери, его очень много раз развернут с порога, не утруждаясь пониманием, что он вообще написал и для кого это.
— Эта книга победила в 2007 году на конкурсе «Заветная мечта». По-моему, это очень важное в контексте разговора произведение. Но перед тем как к нему перейти, скажу пару слов о проблемах современной детской литературы как таковой. По крайней мере, как я их представляю. Например, это некая возрастная «заданность». Если я сегодня сочиню книжку для моего внутреннего ребенка, но все же не совсем простую — мне придется крепко помучиться, предлагая ее какому-либо издательству. Меня первым делом спросят, для какого возраста я ее писал. Сегодня приходится предельно четко ориентироваться на конкретную аудиторию. Невозможно писать книги так, как написаны некоторые классические и любимые миллионами произведения — например, тот же «Маленький принц» (хоть лично мне он и не очень нравится). Если в условиях современного российского рынка появится свой Экзюпери, его очень много раз развернут с порога, не утруждаясь пониманием, что он вообще написал и для кого это.
Помимо заданности аудитории есть и заданность тем. Писать о чем-то непонятном — себе дороже. Проще или встроиться в какой-то модный современный тренд, или, условно говоря, написать очень что-то хорошее про Россию. Эти два лагеря кажутся противоположными, но сходство их в том, что они задают очень жесткие рамки. Я, прости за наивность, все же по привычке считаю, что творчество — это свобода, в том числе от подобных рамок. А современная детская литература без них не очень представима. Может быть, это вообще свойство детской литературы?
— Возможно, так и есть, хотя для меня по-прежнему остается загадкой, как соотнести все это с «Горожанами Солнца».
— Так вот, в 2007 году на «Заветной мечте» победила именно эта книга. Книга, которая нарушает все озвученные правила, не вписывается ни в какие рамки, написана вообще непонятно для кого. Как сказала моя бывшая коллега Светлана Малая, сюжет ее так прост, что вполне может подойти для какого-нибудь детского утренника, причем не самого замысловатого. Под землей существуют загадочные — и, очевидно, не самые доброжелательные — часы, которые заставляют людей бесцельно проживать свои жизни. Воспитанная снеговиками девочка должна спуститься под землю, куда-то в метро, и эти часы разрушить. Все. Из этого можно было бы сделать короткую странненькую сказочку, но Боровиков сделал сказочку длинную.
Изложено тут все так, что до сути докапываешься далеко не сразу — когда начинаешь читать, очень долго не можешь понять, о чем это вообще. К тому же без конца используется прием, к которому, как нас научил Шкловский, обращался еще Лев Толстой, — остранение. Самые обычные вещи в этой книге описываются и названы так, что тебе нужно время и некоторое усилие, чтобы понять, о чем идет речь. Например, люди в городе именуются «земляками», и никаких пояснений нет, ты уж сам как-нибудь пойми, что это обыкновенные горожане. А уборщики снега называются партизанами — и они несут ужас снеговикам, потому что сыплют яд на снег, помогая солнцу его уничтожить. И при этом про них говорят — «партизаны», а почему, как-нибудь разбирайтесь сами. Из всего этого складывается нечто бесконечно остраненное, изложенное замороченным языком — словно ты из марева и липкого сна пробиваешься к свету, а он явлен в виде некоторых нечетких ориентиров: метро, например, угадывается по описаниям, есть еще какие-то места и явления. И все перемежается совсем уж откровенным вымыслом, какими-то образами и героями, которым нет никаких узнаваемых соответствий, поэтому реальность, которую ты разгадал, оказывается накрепко соединена с фантастикой. А временами сюда может вплестись, например, и откровенно философическое тревожащее рассуждение, восходящее примерно к Канту (на самом деле к более раннему периоду): подлинная сущность вещей проявляется, когда мы на них не смотрим.
Подобных книг сейчас просто нет, потому что ни один издатель не станет рисковать и выпускать вещь непонятно для кого. Есть еще один пример, гораздо более известный, — книга «Дом, в котором». Они существуют как прекрасные, непонятные артефакты, и местами кажется, что их написал фантазирующий подросток, еще не до конца разобравшийся в нашем мире, но уже придумавший свой, а возможно, и не один. Если честно, это сочинение я бы не стал выбирать лично для себя: если воспользоваться дурацкой фразой, это — «не мое». Но сам факт его существования мне кажется безумно ценным. Это исключение, говорящее, что правила и жесткие рамки не всесильны.
