Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Валентин Коровин. Жизнь и литературная судьба Ивана Крылова. М.: Литфакт, 2024. Содержание
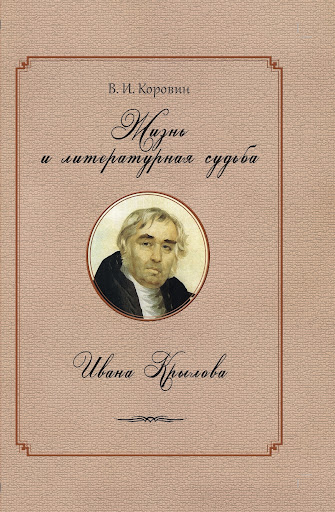 Все это трудное, беспокойное, богатое событиями и неуравновешенное время от последних лет екатерининского правления и до первых годов нового столетия Крылов проводит в провинции, почти не давая о себе знать, лишь изредка публикуя стихи в журналах. С отъездом из Петербурга он пишет мало и главным образом сочиняет стихи. Лишь в конце 1790-х и начале 1800-х годов возвращается к опере и комедии.
Все это трудное, беспокойное, богатое событиями и неуравновешенное время от последних лет екатерининского правления и до первых годов нового столетия Крылов проводит в провинции, почти не давая о себе знать, лишь изредка публикуя стихи в журналах. С отъездом из Петербурга он пишет мало и главным образом сочиняет стихи. Лишь в конце 1790-х и начале 1800-х годов возвращается к опере и комедии.
Крылов уезжал из Петербурга в подавленном состоянии. Сбережений у него было немного, рассчитывать на издание нового журнала или деятельное сотрудничество в каком-либо печатном органе не приходилось, потому что его сатиру цензура все равно бы не пропустила. Поступить в должность после отказа принять предложение Екатерины II и уехать за границу он не мог. Выручили друзья и знакомые. В Москве, куда он направился и куда обычно возвращался после частых отлучек, его радушно встретили Плавильщиков, актеры Сандуновы, помещик Татищев. Но при всем их дружелюбии Крылов не мог обременять их, а должен был как-то содержать себя. Такое средство вскоре нашлось.
В то время всюду распространилась карточная игра. Мгновенные баснословные выигрыши и столь же внезапные фантастические проигрыши тревожили воображение, горячили кровь. Дело дошло до того, что правительство начало преследовать карточных игроков. Как раз в эту пору Крылов, уже пробовавший счастья в картах, пристрастился к игре. Биограф Крылова В. Ф. Кеневич писал: «Нельзя сказать «он играл в карты’’; он жил ими, он видел в них средство разбогатеть». Он узнавал о крупной игре, о сборищах игроков и проводил с ними дни и ночи. «Стыдно сознаться, — говорил он впоследствии Н. П. Гречу, — я ездил по ярмаркам, чтобы отыскивать партнеров. Успех поощрял к игре: в короткое время он сделался обладателем капитала в 110 тысяч рублей ассигнациями». О том же сообщал и П. А. Плетнев.
Однажды, скорее всего в 1795 году, Крылов попал в компанию шулеров. Вместе с ними его вызвали к московскому генерал-губернатору, который объявил им о высылке из города на основании действующих законов. Крылову он сказал: «А вам, милостивый государь, стыдно. Вы, известный писатель, должны были бы сами преследовать порок, а между тем не стыдитесь сидеть за одним столом с отъявленными негодяями». Крылов, по словам Н. И. Греча, «пренаивно» возразил: «Если бы я их обыграл, тогда бы я был виновен; но ведь они меня обыграли. У меня осталось из 110 тысяч — всего 5; мне не с чем продолжать играть». Счастливые победы и досадные неудачи перемежались, но так как удача сопутствовала Крылову (он даже привлек математику для исчисления вероятности выигрышей), то ему удавалось избегать бедности.
Карточная игра стала в глазах Крылова не только средством добычи денег. С помощью карт человек вырывался из обычных рамок группового поведения. Он как бы бросал вызов Фортуне, случаю и получал возможность играть более значительную роль, чем уготованную ему рождением, социальным положением, имущественным достатком. Карточная игра удовлетворяла честолюбивому желанию занять хотя бы в быту более высокое место. В стихах Крылова слышны постоянные сетования на обделявшую его судьбу, на несчастливую долю в обычной, нормальной, трудовой жизни, какой он хотел для себя. Карточная игра в известной мере компенсировала досадную участь. В ней Крылов решил помериться со слепой богиней случая, чтобы отвоевать для себя изменчивое счастье.
В эти годы он многое повидал, изъездив множество городов, и, как всегда, не переставал читать. Судя по отдельным письмам и стихотворениям, он познакомился с десятками авторов и занимался языками, в частности, итальянским. Например, письмо к Е. И. Бенкендорф от 26 ноября 1795 года носит следы изучения на языке подлинника Данте, Ариосто, Метастазио.
<...>
Один из дошедших до нас эпизодов проливает свет на владевшие Крыловым в те годы мысли и настроения. Крылов был человеком действия. Всякое размышление философского, политического, нравственного или иного характера сопровождалось у него практической проверкой. Он был непримиримым врагом любой отвлеченности. Теоретические мудрствования имели для него вес только тогда, когда они подтверждались реальными делами или ощутимыми результатами. Однажды, воспользовавшись гостеприимством В. Е. Татищева, с которым он познакомился прежде и дружески сошелся, Крылов поселился в его подмосковном имении. Случилось так, что хозяин уехал, предоставив в распоряжение писателя дом, библиотеку и повара. Крылов решил на себе испытать судьбу первобытного человека, о счастье которого красноречиво живописал Руссо. Французский радикал-просветитель, как известно, утверждал, что дикий человек по своей морали выше человека цивилизованного. «Естественный человек», учил Руссо, как и «простое» общество, — вот подлинно «золотой век» истории. Привычки, нравы, искусство, зрелища, — словом, вся современная цивилизация — искажение естественного человеческого состояния, в котором люди были равны. Конечно, с формальной точки зрения теория Руссо ложна. Искать золотой век в первобытной простоте — занятие не из лучших. К тому же возвратиться назад нельзя. Но в теории Руссо заключалось и живое мыслительное зерно: он подчеркнул, что цивилизация, основанная на социальном неравенстве, на подавлении и угнетении большинства ради высокого личного развития меньшинства, далеко несовершенна и таит в себе свое собственное отрицание. Этот демократический пафос сочинений Руссо привлек к нему сердца передовых людей, которые, конечно же, почувствовали и слабые, и сильные стороны его парадоксального учения.
Прежде всего чрезвычайно сомнительным был тезис о нравственном преимуществе первобытного человека над цивилизованным. Действительно ли отказ от благ цивилизации, от достижений науки, техники, искусств способен возвратить человека к исходному пункту будущего полноценного развития? И может ли нынешний человек, вкусивший плоды цивилизации, вернуться к дикому существованию, чтобы начать движение вперед по начертанному женевским философом пути?
Крылову выпал случай проверить на себе истинную ценность рассуждений Руссо. Современники (М. Е. Лобанов, В. А. Оленина) называют решение Крылова «причудой» и не усматривают в нем серьезной мысли. Между тем эта «причуда», хотя бы ироническая и шутовская по форме, по содержанию своему не так уж нелепа. В. А. Оленина замечает, что «все пробы он на себе делал». Желание практически проверить каждое теоретическое суждение обнаруживает в Крылове возвышенного и скептического мыслителя, понимающего, что философские построения хороши только тогда, когда они непосредственно и сейчас могут быть испытаны и проверены, когда они приложимы к любому человеку. Идея Руссо о необходимости вернуться к изначальной дикости и естественной простоте, освободить современного человека из-под груза преимуществ цивилизации и тем самым вернуть ему первозданную и незамутненную нравственную чистоту подвергается Крыловым испытанию на практическую достижимость и теоретическую истинность.
«Живучи в деревне у... Татищева... — рассказывает В. А. Оленина, — он вздумал посмотреть, каков был Адам, в первобытном его создании...» И продолжает: «...покуда ездили Татищевы в другую деревню, он отпустил волосы, ногти на руках и ногах и, наконец, в большие жары стал ходить in naturalibus. Не ожидая скорого их возвращения из Курской деревни, он шел по аллее с книгой в руках, углубившись в чтение и в вышеупомянутом туалете. Услышавши шум кареты, он узнал Татищева экипаж. Опрометью побежал он домой; дамы кричали: «Kriloff est fou, ah! mon dieu, il est fou!» (Крылов с ума сошел, а! боже мой, он сумасшедший! — В. К.), и все были в отчаянии. Он только успел добежать до своей комнаты, как Татищев к нему вбежал, спрашивая: «Что с тобою, братец?» — «Ничего, ничего; вели твоему парикмахеру поскорее меня обрить, обстричь и ногти обрезать. Я только хотел попробовать, как был Адам». Тот же эпизод передает и М. Е. Лобанов: «Оставшись один во всем доме, он задумал привести в действие одну из давнишних своих причуд: испытать быт первого человека. Что было причиною этой причуды, не знаю. Он отпустил себе бороду, отрастил длинные ногти и волосы — и вот похаживает по саду с книгою. Так продолжалось несколько месяцев. Раз, углубленный в чтение, слышит он близкий стук кареты, оглядывается — и что же? Граф и все его семейство перед его глазами. При этой чудной, изумительной встрече в карете поднялся шум и крик, и наш Иван Андреевич в эту же минуту исчез. Хозяин нашел его, велел выбрить, одеть его и снова покорил его общественным законам».
Эксперимент Крылова был, строго говоря, не совсем «чист»: писатель читал книги и пользовался услугами татищевского повара. И все-таки цели своей Крылов достиг: он убедился в неестественности «естественного человека» в современный ему век. Хозяева имения сочли своего гостя сумасшедшим. Шутка, проделанная Крыловым, опровергла идею Руссо. Последствия ее имели далеко не комический, а вполне серьезный смысл. Если раньше Крылов лишь отчасти не соглашался с просветителями, то отныне их теории и системы он подвергает все более глубокому сомнению, которое касается самых разных сторон просветительской идеологии и даже затрагивает ее в целом. Скептицизм охватывает теперь не только учение просветителей, но также искусство, питаемое идеями Просвещения. Именно в период скитаний началась переоценка прежних ценностей, и из ученика и последователя просветителей Крылов превращается в их критика, хотя отдельные и весьма важные постулаты и аксиомы их воззрений остаются для него незыблемо прочными. Перелом в мироощущении Крылова произошел с учетом исторического опыта народов Европы, и прежде всего России.
Другим результатом невидимого для нас, скрытого умственного процесса, совершавшегося в Крылове, стало недоверие ко всем абстрактным умствованиям, предлагавшим человечеству пути к счастью и процветанию. Новый Крылов смеется над скоропостижными и в изобилии плодящимися рецептами неслыханных прогрессивных перемен, предпочитая им практическую трезвость, житейскую мудрость, философию, обобщающую опыт, а не обгоняющую его и не бегущую впереди. Если Крылов-комедиограф, Крылов-журналист и Крылов-сатирик часто принимал на веру вдохновенные мечтания просветителей и проповедовал, поучая своих порочных современников, то после скитаний, начиная с 1800-х годов, Крылову — драматургу, а затем баснописцу, не нужно было ссылаться на системы и теории философов, у него отпала необходимость обращаться к их авторитету. Наоборот, он отныне, сопоставляя теории с жизнью, стремился представить саму жизнь школой мудрости, исторического опыта, в свете которых то или иное значение получали философские идеи. В этом состоял один из главных итогов более чем десятилетних размышлений странника.
Особенно зримо новые взгляды Крылова проступили в двух письмах-посланиях — в «Письме о пользе желаний» и в «Послании о пользе страстей», которые относятся, по-видимому, к середине 1790-х годов. Оба произведения представляют собой программные сочинения с явной полемической целью, направленной против господствовавших воззрений на природу человека, в недавнем прошлом разделяемых самим писателем. И в том, и в другом стихотворениях побеждает новое знание, и это придает им светлый, оптимистический тон, сменяющий мрачные и угнетенные интонации псалмов и од, что свидетельствует о преодолении Крыловым мировоззренческого и творческого кризиса.
Перемена тона вызвана решительным разрывом с очень важными идеями просветителей, вошедшими в сознание и быт человека XVIII века. Здесь как бы воочию, на глазах, совершается переход от XVIII к XIX веку.
