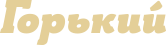Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Кэнтэцу Такамори. Буддизм Чистой Земли. Разгадка «Таннисё». СПб.: Гиперион, 2025. Перевод с японского Илоны Якименко. Содержание
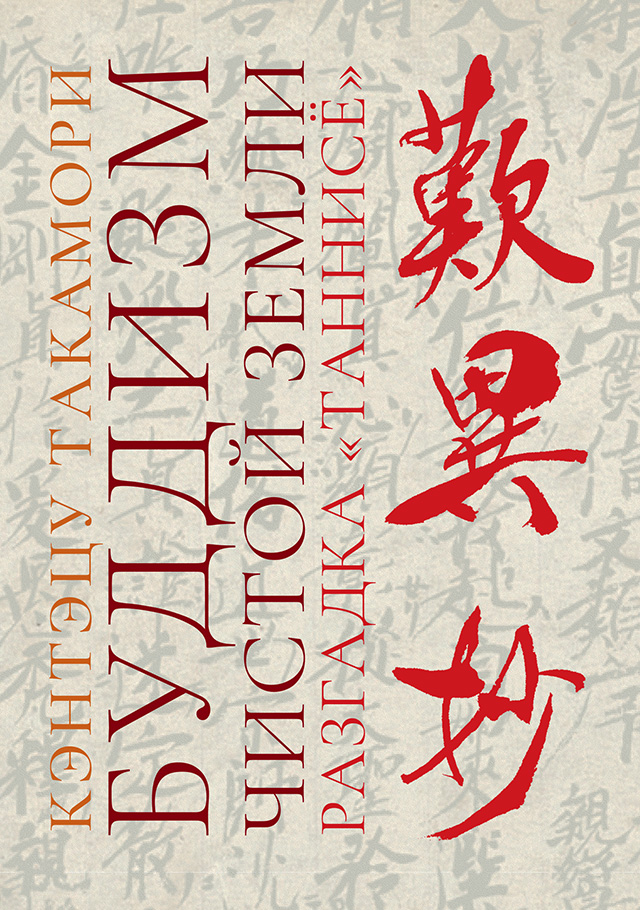 Вольный перевод раздела IV: о двух видах сострадания
Вольный перевод раздела IV: о двух видах сострадания
Если говорить о сострадании, то в буддизме Мудрецов и в буддизме Чистой Земли оно разное.
В буддизме Мудрецов сострадание заключается в жалости к людям и всем живым существам, в заботе о них и защите. Но, как бы мы ни старались, едва ли возможно помочь другим так, как нам хотелось бы.
Что же до сострадания буддизма Чистой Земли, то оно заключается в скорейшем спасении через Обет Амиды и произнесение нэмбуцу, достижении просветления «будды» в Чистой Земле и свободном спасении других с сердцем, преисполненным великим милосердием.
В буддизме Мудрецов сострадание ограниченно. Увы, сколько бы жалости и сочувствия мы ни испытывали к окружающим, в этой жизни мы не в силах даровать им непреходящее спасение.
Вот почему всепроникающее, великое сострадание заключается лишь в спасении с помощью Обета Амиды и произнесении нэмбуцу.
Так говорил Учитель.
Глава 10. Истинный смысл слов о «скорейшем становлении буддой»
Сострадание Чистой Земли есть произнесение нэмбуцу, скорейшее становление буддой и с сердцем, преисполненным великим милосердием, свободное спасение всех живых существ.
«Таннисё», раздел IV
Некоторые критикуют эти слова, заявляя, будто фраза о скорейшем становлении буддой призывает преждевременно умереть. Видимо, эти люди знают, что Синран всегда учил: просветление будды возможно только при рождении в Чистой Земле после смерти.
Если понимать вышеприведенные слова из «Таннисё» буквально, выходит, что сострадание Чистой Земли не сможет реализоваться, если мы не умрем как можно скорее. В таком случае критика действительно уместна.
Однако скорейшее достижение просветления будды неправильно трактовать как скорейшую смерть. Ведь после смерти буддой становятся далеко не все. Возрождение в Чистой Земле и высшее просветление возможны только для тех, кто обрел спасение Амиды и чье рождение буддой предопределено в этом мире. Вот чему учил Синран на протяжении всей своей жизни.
Соответственно, слова о скорейшем становлении буддой не подталкивают нас поспешно уйти из жизни, а призывают как можно раньше обрести уверенность в рождении буддой, то есть получить спасение Амиды.
Согласно четвертому разделу «Таннисё», достигнув высшего просветления в Чистой Земле, мы сможем свободно спасать все живые существа с сердцем, преисполненным великим милосердием. Но что же чувствует спасенный человек до того, как станет буддой?
Синран описывал это так:
«За благодать великого милосердия Амиды Я должен расплатиться, даже если мое тело обратится в прах.
За благодать направлявших меня учителей
Я должен расплатиться, даже если мои кости превратятся в пыль».
«Песнь восхваления благодати Амиды»
Иными словами, я никогда не смогу полностью отблагодарить будду Амиду и тех, кто рассказал мне о его Обете, даже если отдам свою жизнь. Мне остается лишь оплакивать собственную леность, из-за которой я не смогу вернуть и крохотной частицы их благодати.
Сердце спасенного человека переполняет безграничная благодарность. Такой человек не может не подражать «состраданию Чистой Земли», и это, наверное, естественно.
Подобное произошло и с Синраном. Когда в двадцать девять лет он обрел веру тарики и его рождение буддой стало предопределено, он изрек:
«Я думаю лишь о глубине благодати будды Амиды, и мне безразличны чужие насмешки».
«Учение, практика, вера, просветление»
Спасенный человек полон горячей благодарности Амиде. В его жизни нет места равнодушию и праздности. Он не ждет смерти, чтобы спасти других.
Давайте вспомним, как жил Синран на протяжении шестидесяти одного года — с тех пор, как был спасен, и до кончины в девяносто лет.
В возрасте тридцати одного года Синран нарушил устоявшиеся буддийские традиции: стал есть рыбу и женился. Он сделал этот беспрецедентный шаг, чтобы показать: будда Амида готов спасти всех и каждого. Однако поступки его были встречены в штыки и породили шквал критики. Синрана называли безумцем, дьяволом, падшим монахом. А позже нарушения табу привели к ссылке.
Однако, несмотря на свою природную мягкость, Синран, когда дело касалось искажения буддийского учения, оставался непреклонен и был готов поставить на кон собственную жизнь. Такая истовость зачастую приводила к горячим дебатам с другими буддистами.
Наиболее примечательные из его столкновений остались в веках под названием «Три великих буддийских спора». Один из них упоминается в послесловии «Таннисё».
В тридцать пять лет Синран был сослан в провинцию Этиго. Это общеизвестный факт, истинная подоплека которого знакома немногим. Главная причина заключалась в призывах Синрана оставить всех будд, бодхисаттв, богов и обратиться только к будде Амиде. Так учил сам Шакьямуни, именно в этом и заключалась цель его появления на Земле.
Неудивительно, что проповеди Синрана о непоклонении богам привели в ярость властителей тогдашней Японии, считавших свое государство страной божеств. В результате Синран был приговорен к казни, которую позже заменили ссылкой.
Однако, как говорят в народе, хоть ветер дует со всех сторон, гора остается неподвижной. Смело и решительно Синран пресекал любые нападки:
«Император и его вассалы восстали против учения Будды. Попирая справедливость, они поддались гневу и совершили великий грех».
«Учение, практика, вера, просветление»
В то же время Синран выражал радость:
«Не будь мой великий учитель Хонэн отправлен в ссылку, я бы не оказался в изгнании. Не окажись я в изгнании, я не передал бы учение людям, живущим в далеком крае Этиго. Всё благодаря моему наставнику!»
«Записи о жизни [Синрана]»
В словах его нет и следа печали.
После пятилетней ссылки Синран отправился проповедовать в регион Канто. Однажды аскет по имени Бэннэн, люто ненавидевший Синрана, ворвался в его дом с обнаженным мечом.
«Без колебаний Учитель вышел навстречу тому», — гласит книга «Записи о жизни [Синрана]».
«Будь я на его месте, — изрек Синран, — я тоже пошел бы на убийство. Убьем мы или убьют нас, ненавидим мы или ненавидят нас — все это может послужить возможностью для распространения учения Будды».
Синран принял разъяренного аскета как друга, и в итоге великая и милосердная вера полностью изменила жизнь Бэннэна: тот стал учеником Синрана и взял новое имя — Мёхо-бо.
Известна и другая история. Однажды, проповедуя, Синран ходил от дома к дому и попал в метель. Он попросил жившего неподалеку человека по имени Хино Дзаэмон о пристанище, но тот осуждал буддизм и ответил отказом. Синрану не оставалось ничего, как переждать метель на улице. Положив под голову камень вместо подушки, он прилег на снег около дома Хино Дзаэмона. В итоге же этот человек стал учеником Синрана и обрел спасение.
Наверное, эти истории можно назвать примерами «сострадания Чистой Земли», претворенного в жизнь.
Ради спасения неисчислимого множества людей Синрану пришлось перенести многое. Но самым непростым вызовом оказалось отречение от старшего сына, Дзэнрана.
Случилось это 29 мая 1256 года, когда Синрану было восемьдесят четыре года, а сыну его — пятьдесят.
Дзэнран не только нес ложное учение, говоря, будто отец делился с ним секретами веры, но и молился синтоистским богам, занимался гаданием и многими другими практиками, противоречащими буддизму.
Закрыть на это глаза Синран никак не мог. Но сколько ни увещевал отец сына, тот оставался глух к его словам. И Синран был вынужден принять горькое решение.
«Мою боль не описать словами, — гласит его письмо Дзэнрану. — Но теперь я не твой отец, а ты не мой сын. И нет ничего печальнее этого».
Отречение от сына послужило новым поводом для шквала критики. «Что ж это за учение, которое разрушает семьи?» — осуждали одни. «Разве тот, кто неспособен привести к спасению собственного сына, может спасти чужих?!» — негодовали другие.
Вдобавок к гонениям и нападкам, которые Синран уже пережил, сейчас ему приходилось терпеть насмешки. И наверное, это было неизбежно...
Но что, если бы, поддавшись родительским чувствам, Синран закрыл глаза на поступки Дзэнрана? Если бы решил позаботиться о спасении сына после рождения в Чистой Земле и радовался собственному спасению? Тогда миллиарды людей — современники Синрана и те, кому суждено жить после, — лишились бы спасения!
Даже стоя на пороге смерти, Синран осознавал неоплатный долг перед буддой Амидой.
В слезах благодарности он изрек:
«Моя жизнь на исходе. Я отправляюсь в Чистую Землю, но вернусь, подобно волнам в бухте Ваканоура, что бесконечно приходят и уходят. Когда счастлив один человек, знай, что счастливы двое. Когда счастливы двое, знай, что счастливы трое. Один из них я, Синран».
Всю свою жизнь Синран посвятил спасению человечества. И тем не менее с болью в сердце он каялся: «Во мне нет ни крупицы милосердия...» «Самонадеянно думать, что я желаю спасти других. Настоящая работа по спасению других начнется для меня лишь после того, как я достигну просветления будды».
И несомненно, он будет возвращаться к нам вечно, подобно морским волнам. В счастье и в печали мы никогда не одиноки, ведь Синран всегда рядом.
Когда в контексте сострадания Чистой Земли Синран говорит о скорейшем становлении буддой, он призывает нас быстрее обрести уверенность в рождении буддой. Этого нельзя забывать ни в коем случае.
Вольный перевод раздела V: о том, что все мы братья и сестры
Я, Синран, ни разу не произносил нэмбуцу за упокой усопших родителей. Почему? Думая о них, я понимаю, что в бесконечном круговороте рождений и смертей все живые существа были когда-то моими родителями, братьями или сестрами. Потому-то в следующей жизни я должен стать буддой и помочь всем и каждому.
Если бы произнесение нэмбуцу являлось благим деянием, которое мы совершаем собственными силами, было бы возможно направить это добро на спасение своих родителей. Однако это не так, и потому такое невозможно.
Если же только поскорее отбросить дзирики — сомнения в Обете Амиды — и достичь просветления будды в Чистой Земле, то с помощью искусной силы будды мы сумеем помочь другим, начиная с тех, кто крепко с нами связан, кем бы ни были они и в каких бы мирах страданий ни пребывали.
Так говорил Учитель.
Глава 11. Правда ли, что похороны и поминки не приводят к спасению усопших?
Я, Синран, ни разу не произносил нэмбуцу за упокой своих родителей.
«Таннисё», раздел V
Принято считать, что похороны и поминки устраивают для того, чтобы умершие покоились с миром.
Давным-давно в Индии один ученик Шакьямуни спросил:
— Учитель, а правда, что умерший переродится в хорошем месте, если над ним прочитать священные тексты?
Будда молча поднял камень и бросил его в пруд. Указав на место, от которого расходились круги, Будда изрек:
— Если ходить вокруг водоема, повторяя «Всплыви! Всплыви!», всплывет ли камень? Он утонул под собственной тяжестью, и никакие слова не поднимут его на поверхность. То же самое происходит и с человеком: что пожинает он после смерти, определяется личными поступками, то есть кармической энергией. Сколько ни читай священных писаний над покойником, это не изменит его участи.
Идея о том, что чтение сутр способствует спасению усопших, изначально не принадлежала буддизму. Учение, которое Шакьямуни всю свою жизнь нес людям, предназначалось живым. Его слова меняли сознание тех, кто страдает здесь и сейчас. Говорят, Будда никогда не проводил похоронных обрядов и заупокойных служб. Напротив, он избегал формализма и проповедовал учение об освобождении от невежества — просветлении. Именно в этом заключается цель буддизма.
Однако в наши дни немало «буддистов», которые не сомневаются, что похороны, поминки и чтение сутр совершаются ради блага умерших. И вера в подобные предрассудки крепка будто скала.
На фоне всей этой сумятицы слова Синрана о том, что он ни разу не произносил нэмбуцу за упокой своих родителей, подобны грому среди ясного неба.
Под словами «за упокой» здесь понимается служба, которую проводят в надежде, что ритуал принесет усопшему счастье в загробном мире.
Синран потерял отца в возрасте четырех лет, а мать — в возрасте восьми лет. Сколько горя он пережил, возвращаясь мыслью к своим родителям?! Несомненно, Синран помнил о них и хранил драгоценный образ родителей в своем сердце. Однако он утверждал, что никогда не произносил нэмбуцу за родителей. Говоря это, он, разумеется, имел в виду не только повторение нэмбуцу, но и все буддийские заупокойные службы.
Его заявление можно перефразировать так: «Я, Синран, ни разу не произносил нэмбуцу, не читал сутры и не проводил поминальные службы ради своих ушедших родителей».
Эти слова потрясают! Они приводят в замешательство и монахов, которые призывают проводить заупокойные службы, поскольку «чтение сутр — лучшее угощение для усопших», и простых людей, которые воспринимают обряды как догму. Многим слова Синрана могут даже показаться холодными или бессердечными. Однако это шокирующее признание Синрана, почитавшего родителей больше, чем кого-либо, разрушило глубоко укоренившиеся заблуждения и указало на подлинный способ почитания памяти усопших.
Буддийский учитель Какунё (1270–1351), правнук Синрана, сетовал на то, что монахи считают проведение похорон и поминок своей главной обязанностью и будто бы забывают, что Учитель никогда этим не занимался.
«Синран говорил: „Когда я умру, бросьте мое тело в реку Камо и скормите его рыбам“.
Так он объяснял, что нам следует меньше волноваться о теле и уделять первостепенное внимание вере. Посему неправильно считать похороны важным делом. Это нужно прекратить».
Какунё. «Записи об исправлении заблуждений»
Что имел в виду Синран? Он хотел объяснить, что останки подобны пустой оболочке цикады. Важно другое: как можно скорее достичь освобождения своего вечного сознания, то есть обрести веру тарики.
Именно поэтому Какунё писал: не следует придавать важное значение похоронам, «это нужно прекратить».
Когда сын Какунё, Дзонкаку, пошел наперекор этим наставлениям Синрана, отец его изгнал.
В «Записках о поминовении» и других текстах Дзонкаку утверждал:
«После смерти родителей следует заплатить сыновний долг, тщательно выполнив буддийский похоронный ритуал ради успокоения их душ». Или: «Лучший же способ увековечить память матери и отца — произносить нэмбуцу во имя родителей».
Подобные заявления явно противоречат наставлениям Синрана, и это объясняет, почему Дзонкаку был изгнан собственным отцом.
Такие заблуждения бытуют и теперь, являя собой пагубный недуг буддийского мира. Нам следует как можно скорее задуматься о значении бесценных слов Синрана, иначе буддизм превратится в мертвое учение.
Но возникает закономерный вопрос: неужели похороны, поминки и посещение могилы не имеют никакого смысла? Это не так.
Для постигших буддийскую истину это возможность выразить благодарность и радость от спасения Амидой. Тем же, кто пока незнаком с буддизмом, это послужит шансом соприкоснуться с буддой Бесконечной Жизни, Амидой.
Ежегодно множество людей погибает в авариях, однако страшная статистика мало кого удивляет: для нас умершие лишь цифры, смерть не трогает нас. Загруженные делами, идущие на поводу у своих желаний, мы не находим времени, чтобы обратить взгляд внутрь. И если в такой суматохе выдается случай побывать на похоронах или на кладбище, то это бесценно. Желая того или нет, мы сталкиваемся лицом к лицу с горькой правдой и задумываемся о собственной жизни: «Однажды я тоже умру. Не трачу ли я время впустую?» Это отрезвляет.
Надеюсь, что для вас похороны и поминальные службы не превратятся в формальные обряды, а послужат поводом для глубоких размышлений о важнейшем вопросе жизни и смерти и поиске истинного освобождения.