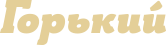Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Джангар Ильясов. Кочевники в Согдиане. Историко-культурный контекст орлатских находок. СПб.: Евразия, 2025. Содержание
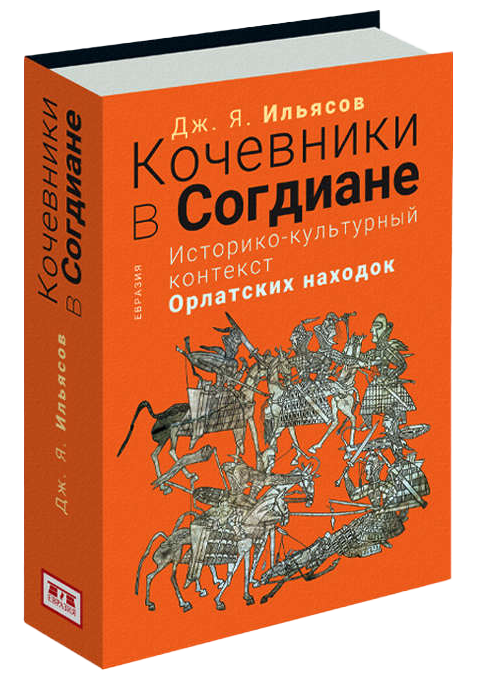 Характер взаимодействия оседлого населения оазисов Согда и кочевников в первые века до н. э. — первые века н. э. — одна из наиболее сложных проблем в истории данного региона. Ограниченное количество письменных источников — китайских, греческих и римских — не способствует полноте картины. Их данные анализируются во множестве статей и книг, но трактовки порой сильно разнятся. Другая важнейшая составляющая наших знаний о вопросе — археологические исследования курганных могильников Самаркандского и Бухарского Согда. Они осуществлены главным образом О. В. Обельченко в 1950–1970-х гг. и, в гораздо меньших объемах, силами УзИскЭ, Института археологии АН РУз, совместных узбекско-французских, узбекско-китайских экспедиций. Результаты этих раскопок, однако, сложно увязывать с данными письменных источников, поэтому они также интерпретированы в научных публикациях по-разному.
Характер взаимодействия оседлого населения оазисов Согда и кочевников в первые века до н. э. — первые века н. э. — одна из наиболее сложных проблем в истории данного региона. Ограниченное количество письменных источников — китайских, греческих и римских — не способствует полноте картины. Их данные анализируются во множестве статей и книг, но трактовки порой сильно разнятся. Другая важнейшая составляющая наших знаний о вопросе — археологические исследования курганных могильников Самаркандского и Бухарского Согда. Они осуществлены главным образом О. В. Обельченко в 1950–1970-х гг. и, в гораздо меньших объемах, силами УзИскЭ, Института археологии АН РУз, совместных узбекско-французских, узбекско-китайских экспедиций. Результаты этих раскопок, однако, сложно увязывать с данными письменных источников, поэтому они также интерпретированы в научных публикациях по-разному.
Подробный разбор мнений о кочевых племенах Средней Азии занял бы слишком много места, поскольку анализу этих проблем, повторим, посвящено огромное количество публикаций. Поэтому упомянем лишь некоторые относительно недавние работы. Этногеографию Средней Азии VII в. до н. э. — VIII в. н. э. подробно проанализировала Б. И. Вайнберг, которая выдвинула некоторые оригинальные идеи, например о том, что юэчжи пришли в Среднюю Азию еще в IV–III вв. до н. э. Источники, освещающие период среднеазиатских походов Александра Македонского (329–327 гг. до н. э.), упоминают скифов-абиев, европейских и азиатских скифов, массагетов, дахов и саков. Эти тексты подробно рассмотрел и обобщил Д. А. Щеглов. Проблемы взаимодействия и миграции кочевников неоднократно рассматривал К. Абдуллаев. Дж. Нилис обобщил данные о миграциях саков и юэчжей в пределы Индийского субконтинента. Происхождению и миграциям юэчжей и завоеванию ими Северной Бактрии посвящены статьи и монография Крейга Бенджамина. А. С. Балахванцев в ряде статей и в монографии рассматривает проблему заселения Средней Азии дахами.
Если сосредоточиться на интересующем нас регионе, то единственной монографией, специально посвященной ранним кочевникам Согдианы, остается книга О. В. Обельченко, внесшего наибольший вклад в изучение материальных свидетельств пребывания здесь номадов — курганных могильников Самаркандского и Бухарского Согда. В монографии Г. А. Пугаченковой об археологическом изучении Мианкаля — местности, расположенной к северо-западу от Самарканда, — кочевнические древности представлены в одной из глав.
Рассмотрим некоторые данные о кочевниках в Согде, чтобы представить историко-культурный контекст, в котором шло формирование Орлатского могильника с интересующим нас курганом № 2.
- Саки
«Саки, которые за Согдом» (sakā tyaiy para sugdam), упоминаемые в двух из надписей Дария I (522–486 гг. до н. э.), — это, по предположению Б. А. Литвинского, засырдарьинские саки, жившие вдоль верхнего, отчасти среднего течения Яксарта / Сырдарьи. Однако, по моему мнению, в надписях подразумевались не только заречные племена, но и те кочевники, что жили на обширных территориях между Сырдарьей и долиной реки Политимет/Зерафшан. Это предгорья и невысокие хребты Гобдунтау, Карокчитау (Разбойничьи горы), Актау (Белые горы), Нуратау, за которыми до Яксарта/Сырдарьи тянутся обширные пустынные и степные территории. Курганы, которые можно было бы отнести к VI–IV вв. до н. э., в Орлатском могильнике, который входит в эту зону, пока неизвестны. Но по крайней мере три ранних кургана в пределах Самаркандского Согда изучены О. В. Обельченко. Один из них раскопан в Акджарском могильнике, расположенном примерно в 30 км к северу от Самарканда; это курган № 4 с вытянутой по оси север-юг грунтовой могилой, в которой покойный был уложен головой на юг. Датирован курган № 4 по остаткам рукоятки меча IV в. до н. э. Два других — это курганы № 9 и № 10 Агалыксайского могильника, расположенного примерно в 12 км к югу от Самарканда, в месте перехода от степной зоны к предгорьям Зерафшанского хребта. Под курганными насыпями здесь также располагались грунтовые могилы, вытянутые по оси север-юг (курган № 9 — яма с заплечиками). В результате ограбления в кургане № 9 остались лишь бронзовое зеркало с боковым насадом и ручкой из слоновой кости, а также каменная пронизка с золотыми обоймами, из чего следует, что погребение было, скорее всего, женским. А в кургане № 10 найдены фрагменты двух железных двулезвийных мечей и кинжала; оба меча имеют прямое перекрестье и серповидное навершие рукоятки. По аналогиям с материалами Прохоровской культуры Южного Приуралья и Нижнего Поволжья О. В. Обельченко датировал курган № 4 Акджарского могильника и курганы № 9 и № 10 Агалыксайского могильника IV веком до н. э. Он связал эти курганы с сакским населением Средней Азии и напомнил о том, что известный сакский бронзовый шлем, найденный в 1953 г. всего в десятке километров от Агалыксайского могильника, вблизи городища Афрасиаб, то есть руин домонгольского Самарканда, также происходил, вероятнее всего, из разрушенного погребения сакского периода. Е. Е. Кузьмина, опубликовавшая статью о шлеме, предлагала предварительно датировать его VI–V вв. до н. э. Ранний курган, датированный IV–III вв. до н. э., выявлен в составе могильника Янгирабат, исследованного узбекско-французской экспедицией.
Большое количество курганов раннего периода выявлено при раскопках О. В. Обельченко на границах Бухарского оазиса. Здесь, в составе Калкансайского, Хазаринского и Кызылтепинского могильников, он раскопал 41 курган с грунтовыми могилами и захоронениями на древней дневной поверхности. О. В. Обельченко датирует эту раннюю группу курганов VII–III вв. до н. э. В Куюмазарском могильнике, расположенном в 30 км к северо-востоку от Бухары, также найдены два меча т. н. прохоровского типа, которые позволили датировать один из курганов IV в. до н. э. Итак, в пределах Зерафшанской долины курганы периодов подчинения Согда Ахеменидам и македонского завоевания известны. В Орлатском могильнике ранних курганов, повторим, пока не раскопано, но это можно объяснить слабой изученностью как данного могильника, так и прилегающих к нему районов. Итак, до и во время похода Александра Македонского вокруг оазисов Согда, и с севера, и с юга, жили кочевники, скорее всего саки. Анализируя очень лаконичные данные Юстина и Страбона, К. Рапен предполагает, что археологически фиксируемое разрушение Самарканда сразу же после правления греко-бактрийского царя Евкратида I (ок. 174–145 гг. до н. э.) — это результат вторжения сарауков/сакараваков, которых считают одним из сакских племен. А ближе к рубежу новой эры государство сакарауков, занимавшее в какой-то период долину Зерафшана, исчезло под давлением асиев/асианов, относящихся к Кангюю.
- Дахи
В последние годы А. С. Балахванцев активно отстаивает мнение о том, что в IV–III вв. до н. э. в Бухарском и Самаркандском Согде поселились дахи — кочевники из Приуралья, которые с рубежа VI и V вв. до н. э. начали в ходе своих меридиональных перекочевок на юг появляться на границах левобережного Хорезма. Часть из них в начале IV в. до н. э. вступает в союзнические отношения с Хорезмом, отпавшим от Ахеменидской державы в конце V в. до н. э., другие не позднее середины этого столетия8 «проникают в Согд (долину Зерафшана) и становятся подданными персидских царей». Именно эти дахи из Согдианы в составе многотысячной армии Дария III Кодомана участвовали в сражении против Александра Македонского при Гавгамелах, а также противостояли ему в долине Зерафшана и под Маракандой в 328 и 327 годах до н. э.
Мнение о том, что согдийские курганы с катакомбами лявандакского типа принадлежали дахам, уже высказывал Ю. А. Заднепровский — он предложил относить к юэчжам погребения с подбоями, катакомбы лявандакского типа, как уже было сказано, к дахам, а катакомбы кенкольского типа считал принадлежащими кангюйцам. А. С. Балахванцев дополнил эти аргументы анализом греческих письменных источников, подчеркнул, что выражение Арриана о дахах, живущих с этой стороны Танаиса/Сырдарьи, подразумевает земли на левом берегу, и привел ряд археологических аргументов в пользу своего мнения. К числу последних относятся южная ориентация катакомб и костяков, что было характерно для Южного Урала, откуда он выводит среднеазиатских дахов.
- Сарматы
Мнение о том, что раскопанные им в Самаркандской и Бухарской областях курганы принадлежали племенам скифо-сарматского круга, или конкретно сарматам, неоднократно высказывал О. В. Обельченко. Они принесли в Согд подбойнокатакомбные погребальные сооружения, и именно сарматы, а не юэчжи, участвовали в «штурме Греко-Бактрии». А что пишут по этому поводу сарматологи, например известный специалист в области сарматской археологии С. И. Безуглов? «Откуда же мог исходить импульс культурных влияний, отразившийся на системе сарматского вооружения? ...По всей видимости, появление длинных клинков у сарматов можно рассматривать в достаточно широком кругу сарматско-среднеазиатских культурных параллелей II в. до н. э. — I в. н. э., фиксируемых целым рядом различных категорий археологического материала. <...> Для нас важно, что ранние среднеазиатские (и производные от них сарматские) мечи иногда имеют морфологические характеристики, сближающие их с мечами позднесарматского типа». Как видно по этой цитате, сейчас возобладало мнение об обратном влиянии — из Средней Азии к сарматам. Уравнения асии/асианы = кангюйцы и асии/асианы = аланы упоминает К. Рапен, и с этой точки зрения параллели с сармато-аланскими древностями выглядят обоснованными.
Захватив Согдиану, Александр, чтобы обезопасить свои завоевания, переправляется через Яксарт/Сырдарью где-то в районе современного Ходженда (Таджикистан), отгоняет саков, применив камнеметные орудия, и основывает Александрию Эсхата (Крайнюю), дабы контролировать переправу и не пускать кочевников в левобережье. После того как наследие Александра было поделено между диадохами, Средняя Азия, как известно, вошла в состав царства Селевка I Никатора (306–281). Чтобы укрепить контроль над восточной частью царства, Селевк отправил своего сына и соправителя (с 295 г. до н. э.) Антиоха в так называемые верхние сатрапии, то есть в Бактрию и Согдиану, где около 293 г. наблюдались активность и волнения кочевых племен и оседлого населения. Для наведения порядка в приграничных со степью районах, по данным Плиния, туда была направлена военная экспедиция под командованием опытного полководца Демодама. Последний вновь переправился на правый берег Яксарта, где установил алтарь в честь Аполлона Дидимейского.
Вероятно, эти акции на некоторое время способствовали удержанию кочевых племен от атак на оазисы Согдианы. В III в. до н. э. в неширокой долине реки Саганак по четкому плану строится город, руины которого известны ныне как городище Кургантепа. Он был форпостом, выдвинутым к границам земель, населенных кочевниками. Примечательно, что этот город с мощной фортификацией находится примерно на полпути между Самаркандом и так называемыми Северными Железными воротами Согда — ущельем Темирбулаксая, через которые осуществлялся выход сквозь Нуратинский хребет в степь. Как и любой подобный укрепленный город в контактной зоне, он служил не только военным целям, но был также торговой факторией, то есть стал местом притяжения для номадов, всегда живо интересовавшихся товарами, которые предлагали города и их сельскохозяйственные округа. Видимо, неслучайно на гряде холмов, доминировавших над городом, возник (или продолжил свое существование?) обширный курганный могильник.
Однако последующие события показали, что эффективно контролировать условные границы селевкидских владений было невозможно. Так, уже ок. 238 г. до н. э. парны и дахи, племена сарматско-массагетского происхождения, завоевывают одну из территорий, недавно отпавшую от Селевкидского царства, — Парфию. Здесь вчерашние кочевники основывают государство, просуществовавшее около пяти столетий и ставшее достойным соперником Рима.
Возвращаясь к связи катакомбных погребений Согда IV–III вв. до н. э. с дахами, отметим, что тут возникают вопросы: как это отождествление соотнести с мнением В. Ю. Малашева и А. И. Торгоева о том, что катакомбы лявандакского типа появляются в Средней Азии не ранее рубежа III и II вв. до н. э.? Как соотносится с ориентированными на юг катакомбами орлатская катакомба с северной ориентацией, датируемая нами I–II вв. н. э.? Является ли переориентация результатом внутренней эволюции погребального обряда дахов и приспособления к веяниям нового времени? Или это результат смешения и ассимиляции различных этнических групп, встречавшихся на территории Согда, более того, хоронивших своих покойников на территории одного могильника? Или разные типы погребальных сооружений, сочетающиеся в одном могильнике, — это хронологический признак? Б. И. Вайнберг писала о том, что раскопки Л. Т. Яблонского в могильнике Тарым-кая 1 показали, что подбойные погребения с южной и северной ориентировкой в Хорезме существуют одновременно, они датируются IV–III вв. до н. э. Как видим, с принадлежностью катакомб лявандакского типа дахам не все так однозначно и ориентация погребенных не всегда может служить хронологическим признаком. Так что вопросы только множатся.