Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2024. Составители и ответственные редакторы Михаил Бойцов, Андрей Виноградов. Содержание
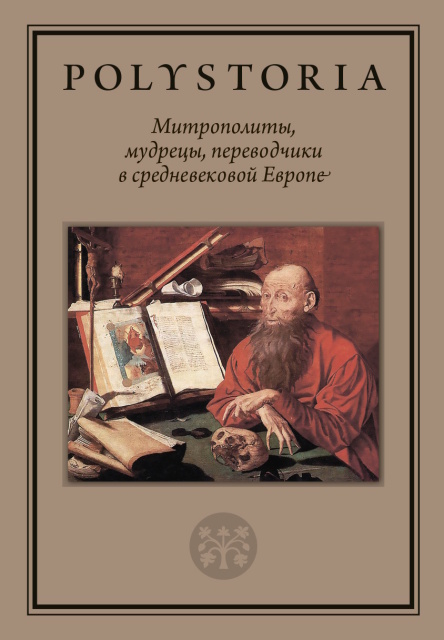 Трактат «О бедствии старости и дряхлости» принадлежит перу знаменитого в свое время болонского магистра риторики Бонкомпаньо да Синья (ок. 1165 — ок. 1245), флорентийца по происхождению. В России этот автор известен очень немногим, поэтому мне показалось небесполезным познакомить с ним читателя по его небольшому, но по-своему яркому сочинению. Оно написано между 1235 и 1240 гг., когда автор уже перешел порог старости, о чем сам же откровенно заявляет. Это значит, что ему было за 60, возраст почтенный, но не «дряхлый», если пользоваться его собственной терминологией.
Трактат «О бедствии старости и дряхлости» принадлежит перу знаменитого в свое время болонского магистра риторики Бонкомпаньо да Синья (ок. 1165 — ок. 1245), флорентийца по происхождению. В России этот автор известен очень немногим, поэтому мне показалось небесполезным познакомить с ним читателя по его небольшому, но по-своему яркому сочинению. Оно написано между 1235 и 1240 гг., когда автор уже перешел порог старости, о чем сам же откровенно заявляет. Это значит, что ему было за 60, возраст почтенный, но не «дряхлый», если пользоваться его собственной терминологией.
Немалую часть своих произведений Бонкомпаньо написал в молодости: около 1190 г., после получения начального образования во Флоренции, он перебрался в Болонью. Здесь, заняв кафедру грамматики, он одно за другим опубликовал «Пять таблиц приветствий» («V Tabule salutationum»), «Колесо Венерино» («Rota Veneris»), «Трактат о добродетелях» («Tractatus virtutum»), «Золотые заметки» («Notule auree»), «Пальму» («Palma»), «Оливу» («Oliva»), «Кедр» («Cedrus»), «Мирру» («Mirra»), «Краткослов» («Breviloquium») и «Введение» («Ysagoge»). К тому же периоду можно отнести, но не слишком надежно, «Корону» («Corona») и «О том, как избегать погрешностей и соблюдать стиль в письме» («De vitiis evitandis et cursibus servandis in dictamine»). Все эти произведения посвящены риторике, но связаны с преподавательской деятельностью Бонкомпаньо, о которой он нередко рассказывает, намекая и на свои таланты, и на свой успех у публики. Характерно, что профессор грамматики полностью посвятил себя риторике, и лишь в 1291 г. эти дисциплины в Болонском университете институционально разделили. К сочинениям Бонкомпаньо следует добавить «Книгу об осаде Анконы» («Liber de оbsidione Anconae»), посвященную неудачной военной кампании Фридриха Барбароссы в союзе с венецианцами в 1173 г., и «Дружбу» («Amicitia») — критический трактат о том, как трудно найти настоящих друзей.
Ключевым моментом в карьере Бонкомпаньо стало увенчание его в 1215 г. в Болонье лавровым венком за главный его труд, не без юмора озаглавленный собственным именем, Boncompagnus, что одновременно ставило знак равенства между названием и автором и звучало примерно как «Добрый товарищ» или «Путеводитель». Событие это стало важным не только для него самого, но и для всей коммунальной культуры Италии: в 1262 г. лавровый венок за «Хронику событий вокруг Тревизской марки» достался его ученику Роландино Падуанскому, в 1315 г. — Альбертино Муссато. Следующие годы Бонкомпаньо провел между Венето и Эмилией-Романьей: в Венеции, Падуе, Виченце, Реджо, а вернувшись в 1235 г. в Болонью, опубликовал написанную ранее масштабную «Новейшую риторику» («Rethorica novissima»).
«О бедствии» посвящено епископу Флоренции Ардинго, и это, конечно, неслучайно. В «Хронике» францисканца Салимбене, писавшего через несколько десятилетий и легко смешивавшего события разных лет, есть одно важное замечание о Бонкомпаньо: на склоне дней тот вроде бы искал благоволения Римской курии, не нашел оного, вернулся во Флоренцию и умер в нищете «в какой-то богадельне». По некрологу церкви Св. Репараты мы знаем, что умер он в госпитале Иоанна Евангелиста. Очевидно, что Болонский университет не смог обеспечить ему спокойной старости, и он, будучи мирянином, вынужден был — видимо, безуспешно — искать покровительства у Церкви. Это обстоятельство кое-что объясняет в истории нашего небольшого сочинения, потому что все крупные произведения Бонкомпаньо обращались к студентам и светской городской элите, близкой к элите церковной, но все же иной.
Как верно выразился Паоло Гарбини, издатель и переводчик трактата, перед нами — opera stravagante, т. е. сочинение, вроде бы не вписывающееся в основную профессиональную и творческую линию Бонкомпаньо, периферийное литературное упражнение, наряду с «Дружбой», «Книгой об осаде Анконы», отчасти «Колесом Венериным» и не дошедшим до нас сочинением о жестах. Однако периферийность эта относительна, потому что вместе эти произведения складываются в своеобразный цикл, в котором автор, университетский магистр, средствами литературы берется за изучение человека в его реальной жизни.
«О бедствии» начинается с педантичного схоластического разбора вопроса: приводятся мнения, даются ссылки, высказывается авторская позиция. Таков литературно-интеллектуальный этикет 1230-х годов. Между тем взгляд нашего писателя острее и шире, чем может показаться при поверхностном чтении. Здесь есть внимание и к Библии, и к медицинской литературе, к тому времени широко распространенной в Италии, есть отсылки к собственному жизненному опыту. Но есть и что-то вроде элементов психологии, если даже не психиатрии, например когда он объясняет причины старческой скаредности. Во всяком случае очень мало здесь традиционного и еще вполне приемлемого в итальянской городской среде морализаторства, основы церковной проповеди. Это не значит, что наш трактат «аморален», потому что мораль видели и в новеллистике, и в других формах сатиры. «О бедствии», безусловно, сатирическое сочинение в том смысле, что в нем шутка не просто присутствует, но формирует стиль, тональность и, следовательно, смысл целого. Юмор здесь созидательный.
Есть, как мне кажется, одно обстоятельство, давшее такому авторскому юмору особые права в рамках именно этого сочинения. В конце Бонкомпаньо признаётся, что не просто закончил книгу, но покончил с писательством в целом. Насколько искренне это признание, судить трудно, абсолютно точная хронология даже дошедших до нас сочинений невозможна. Однако само это заявление подсказывает, что писал он без оглядки на публику. Да, captatio benevolentiae, реверанс адресату, несомненно тоже немолодому, присутствует, схоластическая расстановка акцентов налицо. Но есть и бравада заслуженного магистра, который может позволить себе «пройтись» по Цицерону, столь наивно восславившему в свое время старость, как восславил он и дружбу. Вряд ли можно предполагать, что Бонкомпаньо писал, находясь уже в госпитале, в стесненном положении, иначе об этом было бы сказано.
В то же время, около 1235 г., он опубликовал «Новейшую риторику», одна из задач которой состояла в том, чтобы доказать юристам, что цицероновская риторика ничем им не поможет. Еще в 1190-е годы и в начале следующего столетия он дружил с Аццо, величайшим правоведом-цивилистом тех лет. Аццо, воздавая должное грамматике и терминологическому анализу языка как таковому, полностью разделял недоверие своего друга ко всякому плетению словес и периодически выступал против вмешательства в область правоведения словесников, будь то профессиональные grammatici или «грамотеи», grammantes. Право — гражданское и каноническое — было в Болонье ведущей дисциплиной, а выпускники факультета — городской элитой. Поэтому позиция Бонкомпаньо по отношению к Цицерону, его дружба с юристами и интерес к бурно развивавшейся здесь юриспруденции важны для понимания культурно-политического контекста. Однако следует учитывать, что «Новейшая риторика» особого успеха не получила, а «бесполезность» Цицерона — во многом результат авторского самолюбия и даже самолюбования, его пожелание, а не констатация факта.
И на старость, и на дружбу Бонкомпаньо смотрит скептически, но и сам этот скепсис, в пику главному авторитету средневековой и коммунальной риторики, — не только в замысле конкретного сочинения, но и в конструировании своего авторского Я. Именно я, Бонкомпаньо, а не Цицерон, покажу тебе, читатель, правду жизни. Но авторитетный цицероновский трактат «О старости» незримо присутствует во всем тексте Бонкомпаньо.
Дух соревнования и совсем не средневековое авторское самосознание вообще были свойственны этому магистру, как и многим его современникам и землякам. Он отстаивал самостоятельность болонской школы риторики перед лицом северных конкурентов, особенно развитой и сложной Орлеанской школы, а заодно и свое лидерство среди коллег, тоже не отличавшихся скромностью. Это соревнование — вопрос не праздный как для понимания творчества Бонкомпаньо, так и для верного представления о предгуманистической культуре Италии XIII в. Достаточно вспомнить, что предшественником его на кафедре словесности в Болонье был англо-нормандец Гальфред Винсальвский, один из виднейших европейских стилистов конца XII в., и что заальпийские интеллектуалы вообще часто появлялись здесь уже с середины XII в. Как и сегодня, этот город притягивал к себе иностранцев, и Бонкомпаньо должен был с этим считаться, утверждая свой авторитет. Что он не цитирует Цицерона или, скажем, Максимиана, служившего для средневековых писателей источником представлений о «бедствиях старости» (incommoda senectutis), еще не говорит о том, что он их не знает. Еще в «Бонкомпаньо» он называет плетение словес и нанизывание авторитетов в письменной риторике «губительной ересью», распространенной в Болонье до его появления. Поэтому видимая простота стиля и отказ от целого ряда приемов — сознательный выбор. Мы должны также учитывать, что он намеренно пишет opusculum, а не opus. Это не экономит время и пергамен, но рассчитано на умного читателя, знакомого как минимум с разного рода введениями в классическую литературу (accessus ad auctores), доступными тогда во всех приличных школах.
Стиль Бонкомпаньо, который можно назвать низким (humilis) или средним (medius), безусловно пользовался успехом. Но, как и полагалось приличному интеллектуальному центру, Болонья не следовала лишь этому стилю. Земляк Бонкомпаньо Бене Флорентийский в те же годы предлагал здесь же фактически противоположный подход к риторике. Он стал первым, кто использовал в преподавании псевдоцицероновскую «Риторику к Гереннию» — текст исключительно важный для формирования раннего гуманизма в Европе. Написанный в 1220-е годы «Канделябр», один из главных учебников Бене, свидетельствует о его прекрасном знании французских «поэтик» XII в., о влиянии Гальфреда Винсальвского и вообще о том, что в Болонье Бене представлял французскую литературную парадигму: он настаивал на том, что цитирование «благородных книг», «философов» и «авторов» — залог успеха ритора.
Правда жизни, которую Бонкомпаньо в трактате «О бедствии» явно предпочел авторитетам, в целом беспощадна: больному и нищему старику остается лишь самому выкопать себе могилу. Значит ли это, что перед нами — очередной образец «презрения к миру» и «смертного памятования»? В какой-то степени да. Более того, классический образец такой сатиры наверняка был знаком нашему магистру: «О ничтожестве человеческого состояния», написанный в 1190-е годы молодым кардиналом Лотарио де Сеньи, вскоре избранным папой под именем Иннокентия III. Но как раз из такого рода литературы Бонкомпаньо мог узнать, сколь многозначной может быть сатира на старость. Поэтому образ старика и старухи нередко появляется в его сочинениях.
Например, в «Бонкомпаньо» вопросы старости рассматриваются подробно, в разделе, посвященном «отговариванию», dissuasio, и разговор заканчивается довольно печальной картиной, созданной для того, чтобы отговорить женщину от неравного по возрасту брака:
«Отговаривание от мужчины из-за старости. Неслыханное безумие, женская дурь! Где ты могла услышать и дойти до мысли, что тебе стоит выходить за мужчину, старого и дряхлого, глаза которого близоруки и, что еще хуже, вечно слезятся, слезы капают в вино, когда он пьет, а в бокале остается слюна. За едой он харкает, рыгает, из носа течет, и он постоянно прячет его в платок. Кроме того, ложась спать, он во сне храпит и испускает зловонные ветры, а если его разбудить, кашляет, плюется, вздыхает, жалуется, ноет, а член его, словно свинцовая трубка, лежит на тяжелой мошонке. Вот и поцелует вас лобзанием уст своих беззубый, подарит тебе слюнявые поцелуи сгнившими деснами. Естественно, таким старикам свойственна ревность, они всегда подозревают своих жен в преступлениях, и даже если те не грешат, от подозрений их это не спасает. Будут у тебя и пасынки с падчерицами, жди от них неприятностей, потому что отродясь не бывало мира между мачехой и пасынком».
Как можно видеть, во-первых, наблюдательность, свойственная автору «О бедствии», не изменяет ему и в его «серьезных», масштабных сочинениях, суммах, а во-вторых, он умеет называть вещи своими именами, не слишком стесняясь в выражениях. Это не значит, что старость для него всегда предмет горькой или едкой насмешки. Его старики бывают безумными, забывчивыми и похотливыми, бывают и мудрыми, образованными и сильными. Но важно и то, что его взгляд по-своему физиологичен, и это определение в данном случае даже не анахронизм: Бонкомпаньо знаком с медицинской литературой своего времени, прежде всего с конкретными салернскими текстами, уже доступными в Болонье. Об этом свидетельствует не только наш трактат, но и другие сочинения, например «Дружба» и «Книга об осаде Анконы». Уже в «Бонкомпаньо» можно найти невеселое и натуралистичное описание госпиталя. «О бедствии» — сочинение позднее, поэтому в нем в концентрированной форме мы находим медицинские знания, которыми автор успешно пользовался и, пожалуй, даже гордился. Это важная деталь: в Болонье медицину, конечно, знали и, видимо, уже преподавали, но ее институционализация в университете произошла немного позднее, в 1260-е годы, и связана с деятельностью Таддео Альдеротти. Поэтому «О бедствии», как и другие сочинения Бонкомпаньо, говорит не только о его личном любопытстве, но дает нам возможность услышать голоса его коллег, которые не сохранились на пергамене. Совершенно очевидно, что союз «словесников» и «естественников», свойственный, например, Шартру, Салерно, Толедо в XII столетии, отчасти Парижу и Оксфорду, Римской курии и двору Фридриха II в XIII столетии, был свойственен и Болонье.
Вопрос о делении человеческой жизни на возрасты волновал Средневековье. Пятеричное деление, принятое Бонкомпаньо, совпадает с тем, которое предложил на рубеже VI и VII столетий св. Григорий Великий, хотя по имени, в качестве авторитетов, автор назвал не его, а Гиппократа и Иоанникия, т. е. сирийского медика IX в. Хунайна ибн Исхака. Именно Григорий трактовал притчу о винограднике и работниках (Мф 20: 1–16) так, что рабочий день превратился под его пером в картину всей человеческой жизни. Его 19-я гомилия на Евангелия часто копировалась и читалась на Семидесятницу, третье воскресение перед Великим постом. Казалось бы, скрытая ориентация на богослужебную и экзегетическую традицию в пику названной по имени традиции медицинской парадоксальна. Ведь Бонкомпаньо — человек скорее светской культуры. Однако он обращается к епископу.
