Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
П. Э. Айду, К. В. Дудаков-Кашуро, Г. П. Кротенко, Я. В. Шварцштейн. 100 лет Персимфанса. М.: Бослен, 2022. Содержание
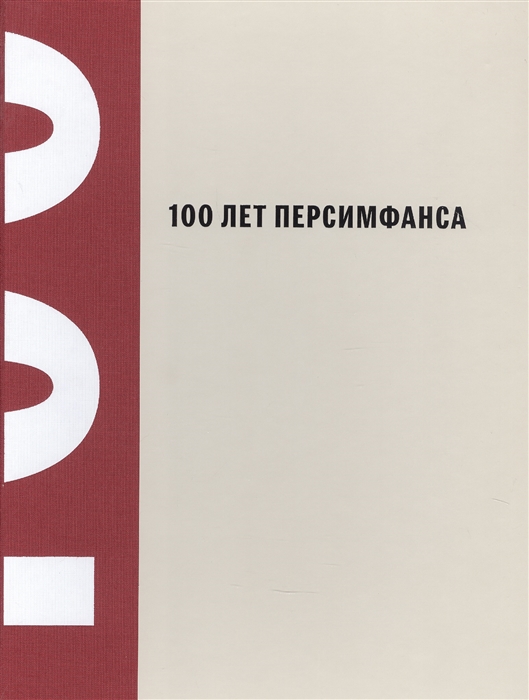 КАК НАЧИНАЛИ
КАК НАЧИНАЛИ
Сперва — без всякой «артиллерийской подготовки» — на полях музыки появился отряд со странным знаменем, дотоле невиданным.
Все «началось» очень просто и почти незаметно — с крохотной и слегка удивленной заметки петитом в хронике о том, что Москве предстоит услышать концерт, в котором оркестр будет играть без дирижера.
Многие на заметку не обратили внимания просто по краткости ее. Другие не обратили внимания и по существу: ведь чего только не бывает в петитных заметках? Некоторые сочли, что кто-то по тяжким концертным временам пустился «в последние тяжкие» и выдумывает небывалые трюки.
Кое-кто заинтересовался по существу — главным образом из тех, кто был ближе к музыкантскому миру и чья осведомленность в связи с этим питалась источниками более содержательными, чем газетный петит.
Первым ответом была снисходительная насмешка:
— Ну стоит ли серьезно говорить о таких вещах? Как может оркестр играть без дирижера? В оркестре несколько десятков человек, у каждого отдельные ноты, играют они на разных инструментах, вступают в разное время. Помимо всего этого, столетняя традиция приучила их к тому, чтобы они внимательнее всего следили за каждым движением палочки дирижера, чтобы они дышали и действовали только по ней и только с ее разрешения.
— И вы говорите, что оркестр может играть без дирижера?!
Было все это в конце 1921-го и в самом начале 1922 года: время было, действительно, очень тяжкое в музыкальной жизни страны. Достаточно вспомнить, что в течение ряда военных и первых революционных лет в Москве симфонические концерты давал почти исключительно Кусевицкий, в самом начале 1920 года выбывший за границу. Спорадически давались симфонические утренники в Большом театре, несколько вялых пoпытoк в этом направлении сделал Музыкальный отдел Наркомпроса, позднее Госфил. Активнейшим — после Кусевицкого — дирижером был Купер.
Затем скудные заработки, общие труднейшие условия жизни заставили концертную исхалтурившуюся жизнь замереть почти вконец.
Вот в это именно время — после заметок, после разговоров — явилось нечто более существенное, явилась на стенах не очень большая афиша, на которой черным по белому (не очень, впрочем, черным по не очень белому) было напечатано, что в Колонном зале Дома союзов оркестр без дирижера, состоящий из 60 музыкантов Большого театра, исполнит ряд произведений Бетховена. Толки стали оживленнее. Объявленные концерты начали комментироваться. Основной тон разговоров был любопытствующе-ядовитый.
Я вынужден тут же забежать вперед и сказать, что впоследствии почти все те, кто не мог утерпеть и считал долгом своей чести и мудрости высказаться принципиально об Ансамбле, не слышав его, повторял почти в точности все, что говорилось в самом начале работы Ансамбля.
Чем ближе был объявленный срок, тем живее становилось любопытство и тем рельефнее стало определяться уже враждебное отношение отдельных групп — на первом месте среди них оказались, конечно, дирижеры.
Вы сделали бы огромную ошибку, если бы решили, что с отъездом Кусевицкого в Москве не осталось дирижеров. Дирижеров было очень много, многие из них дирижировали в концертах, но...
Так пришел некий вечер, и в окружении мраморных колонн странный отряд исполнил свое обещание: он играл, он играл без дирижера, он играл без дирижера Бетховена. Мало того: он хорошо играл без дирижера Бетховена.
Потребовалось стечение ряда обстоятельств для того, чтобы этот опыт осуществился. Уехал Кусевицкий, оркестр его распался, значительная часть оркестрантов из него пошла в оркестр Большого театра, в том числе и Л. М. Цейтлин.
Вскоре после введения новой экономической политики появилась частная инициатива в деле организации концертов. В Москве было организовано, по инициативе Д. М. Персона, концертное бюро. Перспектива предложенного Цейтлиным концерта без дирижера показалась Персону заманчивой — концерт был организован Цейтлиным совместно с Табаковым и Станеком.
Концерт был организован — и вскоре повторен. Участие в нем приняла только часть оркестрантов Большого театра — часть предпочла не тревожить себя новшествами; к этому присоединилась энергичная агитация против нового начинания со стороны некоторых администраторов Большого театра (тут сыграла роль и личная их неприязнь к Цейтлину — «фанатику и обличителю»).
Все-таки репетиции шли и увлекали оркестр, для которого впервые внове открывались старые заигранные партитуры. В оркестре появилось волнение, просыпались осознающиеся силы, каждый слушал каждого и всех, все слушали каждого.
После первого концерта оркестранты — вопреки обычаю — не только не разбежались, но долго и беспомощно пытались выразить все то, что их обуревало, что было непривычно, небывало — и очень сильно.
Думается мне, что артистическая комната Дома союзов тогда переживала одну из интереснейших своих минут. Оркестранты, сойдя с эстрады под довольно дружественные и энергичные рукоплескания, толклись на месте, не совсем зная, как разрядить нерастраченное волнение и напряжение.
Через несколько минут после окончания концерта в оркестрантской стали появляться люди из зала. Помню К. Н. Игумнова, А. Б. Хессина. Антон Углов немедленно положил начало импровизированному митингу — надо сказать, что он был едва ли не первым, кто со стороны указал на огромное общественное значение нового дела. Говорили еще и другие — помню, как при словах некоего оратора, проводившего по случаю «падения дирижера» параллели между Никишем и Кусевицким, обычно очень сдержанный Игумнов стал энергично протестовать против «этакого»: против сравнения Никиша с Кусевицким.
В общем, было и шумно и довольно нелепо — все ощущали потребность как-то и что-то выразить, и разве не безразлично, как и что говорилось тогда — в первые, взбудораженные минуты?
Важно, что было сказано новое слово, что новое слово было услышано, что оно вызвало движение, что целая область музыкальной жизни всколыхнулась.
Движение не осталось бесплодным. Это подтвердило все дальнейшее.
Публики в Колонном зале Дома союзов на первом концерте было много. Публика настороженно следила за ходом исполнения, словно выжидая, когда же оркестр остановится или разойдется, когда обнаружится трюк и что из этого выйдет.
Оркестр не остановился, не разошелся, никакого трюка не обнаружилось по той простой причине, что никакого трюка не было. Напряжение, естественно, было очень велико, но играли уверенно и сильно. Благодаря напряжению каждая часть, каждая фраза партитуры приобретали новую силу, новую и более глубокую выразительность, и этого не могли не видеть, не могли не почувствовать даже те, кто принципиально возражал против нового метода, кто считал нежизненной новую организацию. К этому присоединялись также раздутые сообщения о невероятном количестве репетиций, об их небывалой продолжительности и многое в том же роде.
Этот вечер сыграл роль поворотного столба — к таким, «смягченным», возражениям:
— Да, оркестр играет без обычного дирижера. Но несомненно, что дирижер скрытый здесь есть. Он делает тайные знаки, заметные только оркестру. И вообще это шантаж. Здесь что-то не так. Здесь есть еще и мистификация. Иначе не может быть.
Надменнее всего был вид у дирижеров, когда они уходили из зала с высокими мраморными колоннами. Дирижеров было очень много в тот вечер в зале с высокими мраморными колоннами. Их было необычно много. Говорят, что там были тогда все дирижеры, существовавшие в природе в радиусе не менее 500 верст.
Надменный вид дирижеров объясняли совершенно неуместной шуткой одного острослова по поводу одного оркестра без дирижера и множества дирижеров без оркестра.
Когда у дирижеров спрашивали их мнение о происходящем странном случае — они пожимали плечами:
— Ведь это же несерьезно. Во-первых, все эти вещи каждому из оркестрантов давно известны наизусть по исполнениям с дирижерами. Во-вторых, это ведь даже и не ново — разве не было и прежде за границей случаев, когда дирижер складывал руки, а оркестр продолжал играть? Но там это делал дирижер.
Это объяснение очень многим понравилось. Правда, были недобрые люди, которые объясняли недовольство дирижеров несколько иначе: легко ли первосвященнику глядеть, как рушат его храм, как срывают плащаницу и вытаскивают гнилую труху вместо целительных «мощей»?
Таких — правда — было немного. Большинство — особенно среди критикующих — согласилось с тем, что это «всего-навсего эффектничанье, которое будет немедленно разоблачено во всех штуках. Успеха такая вещь не может иметь. Она не серьезна. Этот всадник без головы никуда не может приехать. Попытка — обреченная в корне».
Но я должен сказать, что уже тогда, когда большинство дирижеров особенно настойчиво смеялось над «попыткой с негодными средствами», «успокоенно» заявляя, что в этом начинании нет задатков к развитию и что оно только «возвеличивает» дирижера, один седой и самый крупный среди них нашел в себе мужество признать, что все это совсем не так уж просто и не так уж ясно. Новое дело действительно ново и только разговорами от него отделываться нельзя.
Шла правильная осада. Отряд оборонялся работой. Для осаждающих не было средств недопустимых. Сильнейшими защитниками отряда были труд и время.
Доходили слухи о возникновении таких же отрядов в других местах. Но они оказывались слабее и быстро погибали. В Москве же время доказало: попытка не была обреченной в корне.
Скрытого дирижера не оказалось. Не оказалось также тайных знаков.
Не было затем обнаружено и признаков шантажа. Не было мистификации.
Атаки отбивались.
Вещь оказалась серьезной. Она имела успех.
Оркестр играл уже в Большом зале Консерватории. Оркестр играл также в Театре Революции.
Отряд не только захватил территорию, он обосновался на ней, он расширял ее.
Метод оставался тот же, хотя менялись программы, менялись числа в календарях.
Знакомые голоса стали перестраиваться.
— Позвольте, как же это? Зачем вы так играете? Почему вы продолжаете так играть?
— Жаль, что вы раньше нас об этом не спросили. Мы играем без дирижера потому, что мы хотим обновить методы симфонического исполнения.
Десятилетиями оркестровая практика превратила музыканта в безвольную, безыдейную, немыслящую, инертную частицу оркестровой машины.
Оркестранта приучили не рассуждать, его приучили следовать указке — не спрашивая, почему он должен идти именно в эту сторону. Оркестранту сказали, что он может ничего не знать, кроме своего инструмента и своей нотной строчки, и благо ему будет. То, что происходит рядом с ним, должно его касаться не больше событий на Южном полюсе.
О целом — о музыке думает дирижер. Он — «существо иной расы». Только с его соизволения можно с трепетом соприкоснуться священнодействию, ибо дирижер — первосвященник, свыше духом святым помазанный.
Против этого всего, против мистики и ненужного ослепления, против уродливых форм музыкального воспитания, против отупляющего безволия и бессознательности оркестранта — за сознательного музыканта, знающего точно и твердо, что и почему он делает, знающего — к чему стремится он вместе со всеми окружающими, осознающего не только свой инструмент, не только свою строчку, но и всю партитуру, всю совместность оркестрового организма и оркестрового звучания.
За музыканта-коллективиста, общественника, знающего всю силу спайки, весь размах коллективного устремления — не по указке, а по осознанию, по воле и чувству.
— Как же это случилось, что возникло столько толков, расходившихся с фактами? Почему новой организации приписывали самые разнообразные «идеологии» и цели?
Прежде всего потому, что вначале никто из инициаторов бездирижерного оркестра более или менее обоснованно не прокламировал поставленные перед Ансамблем задачи — все ушло в практическую работу. Остальное, естественно, «доделывали» все те, кому было охота. Получилось из-за этого немало путаницы.
Таковы были «внешние» условия начала. Внутренне дело обстояло так.
Мысль о том, что положение современного оркестра ненормально, приходила профессору Л. М. Цейтлину — инициатору, фактическому создателю и руководителю Персимфанса — много лет назад, задолго до революции, в бытность его концертмейстером в оркестре Кусевицкого. Долгие годы оркестровой работы показали ему во весь рост все те условия, которые превращали оркестрового музыканта в механическую часть большого инструмента — оркестра, которые убивали в оркестранте инициативу, которые делали для него ненужным знакомство с исполняемым произведением в целом, которые, наконец, превращали оркестр фактически в инструмент, «на котором играли дирижеры».
Квалификация оркестранта резко этим понижалась, ремесленничество становилось характернейшей чертой, музыкальная безответственность была законом: ведь если солисту предлагают участие в концерте — его первый вопрос о программе, солист будет исполнять то, что ему по силам, что ему близко.
Оркестровый музыкант, когда его приглашают участвовать в концерте, не спрашивает о репертуаре — давным-давно установлено обиходом, что «все пойдет», количество покроет качество, в массе пропадают дефекты отдельных участников, важно только, чтобы все в общем были «достаточно» технически подготовлены — остальное сделает муштровка дирижерской палочки.
Оркестр не имел лица — его лицом была манера дирижера. Менялись дирижеры, менялись методы работы — все вместе еще более обезличивало оркестранта, от которого никогда не требовали ни знания вещи в целом, ни интереса к ней — требование было только одно: послушание взмаху палочки.
Не знание организма, в котором участвует каждый оркестрант, не осознанная связь с ним, не понимание логического развития партитуры — конец дирижерской палочки связывал музыканта со всеми другими.
И хорошо, если дирижерская палочка была в умных и знающих, талантливых руках. Но много ли таких? Разве средний дирижер знает действительно партитуру? Разве не прав был Римский-Корсаков, говоря, что «дирижерство — дело темное».
Однако это «темное дело» имело свой гипноз и им держалось, оно развратило оркестранта, оно освобождало его от необходимости думать — думали за него, ему приказывали, и оставалось только повиноваться: чего же проще?
И в значительной мере именно этот пассеизм, эта неподвижность, эта рутина так долго мешали организовать сознательный систематический опыт бездирижерного исполнения.
Он был осуществлен в начале 1922 года.
И если перебрать в памяти только основные этапы этих пяти лет жизни Персимфанса, если перелистать старые программы и вспомнить, что было пережито, что было преодолено для выполнения той работы, о которой на страничках этих программ говорилось только перечнями исполняемых вещей, — сумма затраченной энергии, сил, нервов окажется почти непостижимой.
После первых двух концертов — 13 и 20 февраля 1922 года, в которых была исполнена первая Бетховенская программа, — настал первый кризис в жизни Ансамбля.
Тогда в первый раз возник вопрос — быть коллективу или нет, продолжится ли начатое движение или оборвется на первых двух шагах?
Тогда должно было решиться — были ли первые два концерта случайным опытом или серьезной завязью большого и плодотворного начинания.
Если осуществление первых двух концертов оказалось практически возможным благодаря соединению давней настойчивой мечты Л. М. Цейтлина со стремлением организатора Д. М. Персона найти что-нибудь новое для своего концертного бюро, то потом надо было ставить вопрос о создании постоянного коллектива — самостоятельного и самоотверженного.
Собственно говоря — в принципе этот вопрос был решен твердо и сразу: коллективу быть.
Дело было за практическим осуществлением.
Помню, как в июне 1922 года, когда дело наладилось, репетиции осуществились, зал был снят, афиши были напечатаны, а Петровская касса открыла предварительную продажу билетов, Цейтлин бежал по жаре по Неглинному проезду с пачкой афиш, неся их «скорей, скорей» по магазинам, потому что на расклейку афиш денег еще не было.
Многие, вероятно, удивятся, узнав, что афиши концерта должен был нести инициатор и руководитель всего дела. Но еще больше удивятся многие, узнав, что по сей день этот инициатор и руководитель занимается — вынужден подчас заниматься — вещами, которые отнюдь не являются или не должны являться делом идейного руководителя художественной организации. Об этом расскажу подробнее в другом месте, теперь же, возвращаясь к июню 1922 года, напомню, как проходил третий концерт Ансамбля, состоявшийся в Большом зале Консерватории 19 июня 1922 года.
Его программа состояла из произведений П. И. Чайковского — тогда были исполнены увертюра «Ромео и Джульетта», «Серенада для струнного оркестра» и Пятая симфония.
Народу было много, успех был определенный, но, конечно, успех этот был вполне — так сказать — условный: мы были убеждены, что очень многие в публике, отдавая дань успешному выполнению Ансамблем своих задач, не оставляли мысли о привычной фигуре дирижера.
Подтверждением этому может служить такой коротенький разговор. На этот третий концерт впервые, кажется, пришли «иноземные гости»: это были приехавшие в Москву немецкие дипломаты, и меня — по соображениям «дипломатическим» — посадили с ними. И вот когда я им рассказал об идее симфонического ансамбля, о коллективистическом фундаменте нового начинания, один из гостей, мерно и чинно кивая головой в знак «понимания и сочувствия», спросил:
— J-а-а! Аbеr wärе еs dеm Zuhörеr niсht аngеnеhmеr, wеnn dаzu noсh еin Dirigеnt аm Рult wärе?
(— Да-а! Но разве слушателю не было бы приятнее, если бы при этом за пультом был также и дирижер?)
Не обольщаясь, мы знали, что на этой точке зрения — удобства, «приятности» для слушателя — стоит не один человек.
Это нас особенно не смущало ни тогда, ни в последующие годы. Mы знали и знаем твердо, что искусство движется не путями слушательского удобства.
За концертом из произведений Чайковского последовал концерт из произведений Римского-Корсакова — 26 июня. 3 июля был повторен концерт из произведений Чайковского, а 10 июля Ансамбль сыграл Пятую и Восьмую симфонии Бетховена, причем в тот же вечер Ансамбль выступил также в концерте для союза металлистов: это выступление было первым из ряда концертов, данных коллективом для профессиональных и общественных организаций и не вошедших в основной перечень концертов, сыгранных Персимфансом. Этот этап работы Ансамбля завершился 17 июля 7-м концертом из произведений Грига.
Перерыв длился затем до сентября, когда начался другой этап работы Персимфанса, исключительно активный, крайне трудный и глубоко плодотворный. Это был этап, в котором мощно и уверенно развернулись возможности коллектива, это был этап его юного и буйного цветения — именно тогда коллектив занял совершенно определенно прочное и доминирующее место в советской музыкальной жизни, несмотря на то, что его собственное организационное положение было и в ту пору подчас очень неустойчивым, «благодаря» (если можно за такие вещи благодарить) стараниям многих «друзей» Ансамбля. О том, какими «дружественными» действиями тогда отличались некоторые «деятели», — нам еще придется говорить.
