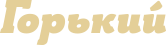Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мария Кнебель. О действенном анализе пьесы и роли. М.: Издательство ГИТИС, 2025. Содержание
 Редакция: В книге, посвященной Марии Осиповне, вы вспоминаете, что она обычно называла себя педагогом, а не учителем.
Редакция: В книге, посвященной Марии Осиповне, вы вспоминаете, что она обычно называла себя педагогом, а не учителем.
Наталья Зверева: Думаю, что для нее это было принципиально важно. Мария Осиповна занималась именно педагогикой — конечно, в таком, очень емком ее понимании. Считала, что главная ее задача — раскрыть человеческую индивидуальность, воспитать личность, с которой будет интересно общаться другим личностям. Она уважала индивидуальные творческие качества и развивала их в каждом студенте. Ее подход к обучению принципиально отличался, например, от методов Андрея Александровича Гончарова, замечательного мастера, у которого я тоже училась. Гончаров, безусловно, был ярким мастером и педагогом, но он именно учил. Порой он кричал на своих учеников так, что, как говорится, дрожали стекла. Мария Осиповна же никогда не повышала голос. Она разговаривала с подопечными на равных, и они очень это ценили. Студенты не скрывали от нее своих проблем, были откровенными в самых разных ситуациях — и творческих, и человеческих. В книгах Мария Осиповна прямо утверждала, что педагогика требует от человека особых, «близких к материнским», качеств. Она не учила, она воспитывала личность, творческую индивидуальность.
Р.: Вы понимаете, откуда взялись такие установки?
Н. З.: Думаю, многое было заложено в нее еще в детстве, в семье, ее отцом, знаменитым издателем книг по русскому искусству. А потом ее университетом стал Художественный театр, в котором она проработала около двадцати лет: при Станиславском, при Немировиче-Данченко, при игравших в те времена на сцене замечательных актерах. И это, конечно, был самый лучший университет. Со Станиславским она особенно тесно работала в последние годы его жизни. Станиславский руководил в то время оперно-драматической студией. Это было его отдельное детище, не связанное со МХАТом. Оно, к слову, находилось неподалеку от ГИТИСа. Он сам позвал М. О. к себе, очевидно почувствовав, что в ней есть такой — педагогический — божий дар, и предложил ей преподавать «Художественное слово». М. О. честно призналась, что никогда этим не занималась, и услышала в ответ: «Тем лучше — значит, у вас еще не выработались штампы». Станиславский хотел научить оперных актеров не только петь, но и играть. Поэтому ему нужна была хорошая актриса. Педагогов, которые ставили голос, у него было достаточно. Но намного сложнее оказалось добиться от актера, чтобы он не просто пел, но и понимал, что и зачем он делает в спектакле, чего добивается, понимал смысл своей роли. Вот с этим тогда было плохо.
Попутно произошло еще одно важное событие. Мария Осиповна, кстати, пишет об этом в книге «Вся жизнь». Станиславский, мучившийся с оперными артистами, которые умели верно брать ноты и больше ничего не хотели знать, открыл для себя новый метод работы — действенный анализ. Это был этюдный метод работы, который, коротко говоря, сводился к следующему: Станиславский разъяснял артистам суть сцены, ее событие, ее конфликт, их поведение, после чего требовал повторить сцену уже без пения, своими словами импровизируя текст. Именно это было для них самым сложным: они могли выучить текст роли, спеть его, даже продекламировать, но по-человечески прожить — не могли. Так родился метод действенного анализа пьесы и роли, который Мария Осиповна после смерти Станиславского развивала всю жизнь в рамках своей работы и в театрах, и в институте. Далеко не сразу этот метод обрел сторонников. Многие актеры старой выучки очень сопротивлялись: «Зачем? Какими своими словами? Я текст выучил — я знаю, как играть!» — и пошел декламировать. Тогда же Кнебель начала об этом писать. Возникла книжка — первая ее серьезная теоретическая работа «О действенном анализе пьесы и роли». Поскольку книга была первой, она получилась немного рыхлой, перегруженной. Марии Осиповне казалось, что все нужно объяснить, уточнить, доказать. Потом выяснилось, что часть уточнений была лишней, в то же время другие места необходимо прокомментировать подробнее, некоторые мысли развить. Поэтому М. О. неслучайно переиздала книгу уже в формате статьи под таким же названием. Я сама уже давно книгой не пользуюсь, тем более что ее кто-то стащил. Наверное, потому, что в ней был автограф М. О. Не думаю, что это сделали ради текста.
Когда мне что-то надо вспомнить, что-то проверить, я лезу именно в статью. Она очень компактная, точная. По-моему, прекрасная статья. И того, что там написано, вполне достаточно. Дай бог, чтобы этим овладели. Если вы хотите переиздать саму книжку, имейте в виду, что это скорее исторический документ.
Р.: Она невероятно популярна.
Н. З.: Именно книжка? Не верю. Она на слуху, о ней говорят. Но я думаю, что переиздать именно статью отдельно было бы намного разумней. Я точно знаю, что студенты читают именно статью. Я студентов-режиссеров имею в виду — актеры вообще ничего не читают, причем уже давно. Да и режиссеры теперь читают мало, унизительно мало по сравнению с тем, сколько читало мое поколение. Книжку они читать точно не будут — зачем себя так переутомлять? Она хорошая, эта книжка, но в ней есть своего рода ненужности, необязательности. Особенно их много в примерах. В статье же все отцежено, отжато, точно: смысл, цель, задачи, метод, как он связан с другими элементами системы: действие, общение, характер, личность. И эта статья, безусловно, несет в себе некоторый педагогический акцент.
Р.: В вашей книге, посвященной Марии Осиповне, есть упоминание о том, что она была антропософкой.
Н. З.: Она была антропософкой. Мне трудно судить, в какой мере это было серьезно. Но то, что была, я знаю точно. Наташа Крымова вспоминала, что Мария Осиповна об этом упоминала скорее из озорства: ведь Михаил Чехов был антропософом, а Кнебель была его преданной ученицей. Но я точно знаю, что это не было просто так. К сожалению, я тогда была молода, глупа и многого не запоминала и не записывала. Но я помню, как М. О. рассказывала, что с Татьяной Толстой, дочерью Льва Николаевича, она познакомилась в антропософском кружке, который они обе посещали.
Были ведь времена советские, очень неподходящие для антропософских взглядов. М. О. за то, что она упоминала Михаила Чехова, трепали как могли. И сняли с заведования кафедрой во многом из-за этого.
Вообще, она была человеком верующим. И все антропософские взгляды Чехова для себя отцеживала. Они были ей близки. Церковь она посещала редко, но была верующим человеком. Я в книге о ней пересказываю свой сон, приснившийся мне на второй день после ее смерти. Мне снилось, что я иду по дороге (просто дорога — пейзажа нет) и мы с ней встречаемся. Обнимаемся. Она мне говорит: «Смерти нет. Это глупые люди выдумали». И мы с ней, обнявшись, идем какое-то время. Потом она уходит одна, а я остаюсь. Она исчезает вскоре в тумане... Слава богу, у меня тогда хватило мозгов, проснувшись, все это записать. Знаете, не будь она верующей, она бы мне такой не приснилась. Я не могу сказать, что я сама истинно верующая, но в то, что есть нечто, что здесь жизнь не кончается, — в это я верю. Мне это от нее передалось в какой-то мере.
Вся ее психология, весь склад ее души, ее отношение к другим людям, к их внутреннему миру — вот откуда и происходит та самая педагогика. В понятиях, что есть добро, а что нет; что справедливо, что нет. Что может себе позволить верующий человек и что не может. Ведь это совершенно другое восприятие жизни, другое восприятие окружающих тебя людей. Это понимание того, что каждый человек — сложная душа, в которой нужно разбираться, а не делить всех на отрицательных и положительных, что было обычным для советской драматургии. И это в Марии Осиповне было изначально. Хоть она и не декларировала: «Я верю!» Мне она говорила иногда, мол, сегодня заехали с сестрой Лелей в церковь. Это вскользь, между делом говорилось. Со студентами она на эти темы старалась не говорить. Хотя в какой-то мере ей приходилось этого касаться, говоря о Михаиле Чехове. Но делалось это очень осторожно. Они с таким трудом пробивали с Натальей Анатольевной Крымовой книжку о Чехове — это пересказать невозможно.
Р.: Цитата из одного вашего текста о Кнебель: «Ей были свойственны свобода мышления и взглядов». Хотелось бы понять, что вы подразумевали под «взглядами»?
Н. З.: Наверное, речь про взгляд на человеческую душу как на некую драгоценность, сложное образование. Она это учитывала в своей работе с актерами. Она терпеть не могла крайностей: хороший — плохой, туда его — сюда его. Каждый человек — это сложный духовный мир. Это в ней было железно. Поэтому она так хорошо ставила А. П. Чехова, например. Она «Вишневый сад» очень любила. В Театре Советской армии поставила его хорошо, с Добржанской в главной роли. И прекрасно поставила, когда работала в Ирландии. Ведь неслучайно ее туда пригласили на постановку «Вишневого сада». И я тут ничего другого не могу сказать: для нее каждый человек — это личность, душа, которую надо раскрывать. И упаси Бог оперировать для этого примитивными понятиями.
Кстати, ведь и Станиславский был верующим человеком — как иначе... Неслучайно он и Марию Осиповну позвал работать к себе: он видел в ней человека, разбирающегося в нюансах и тонкостях человеческой души...
Во МХАТе всегда были конфликты одних с другими — иначе театр не живет. Марию Осиповну уволили из театра после того, как умер Станиславский, а затем Немирович-Данченко: противоборствующая сторона взяла верх. Пока Немирович был живой, он ее оберегал. Кнебель вспоминала, что однажды к ней подошел Немирович и тихо сказал: «Пока я в театре, вы будете здесь работать». И ушел. Я тогда переспросила у Марии Осиповны, почему она не пыталась уточнить, что это значит. М. О. ответила, что это был человек, с которым хорошо знаешь, что можно спрашивать, а что нельзя.
Р.: Почему же ее хотели выгнать?
Н. З.: Она была неудобна и не нужна Кедрову. Кедров, который тогда руководил МХАТом, был человек жесткий. При этом он сделал ставку на материалистическую сторону учения Станиславского и ее развивал. Главным для него были действия, причем конкретные — физические. Именно на физическом действии тогда строилась жизнь актера на сцене. Такой подход был максимально далек от внутреннего мира, который пыталась взращивать Кнебель.
Р.: В своей книге вы упоминаете, что вживание в роль животного было одним из важнейших упражнений для Кнебель.
Н. З.: Мария Осиповна два года проучилась в студии Михаила Чехова. У него была своя система воспитания. Он не репетировал со своими студентами никаких пьес. Они занимались только импровизациями и упражнениями. Очень часто импровизировали животных. Одному Чехов, допустим, говорил: ты тигр, другому: ты верблюд. Часто показывали людей, или, как говорил Чехов, «человечков», самых разных по характеру. Какие-то сюжеты Чехов им придумывал, коротенькие сценки, где они могли импровизировать. М. О., когда стала преподавателем, тоже большое внимание уделяла занятиям по импровизационному существованию.
М. О. очень любила именно упражнения на животных. Но даже это было непросто практиковать в то время. Помню, как на зачеты приходили преподаватели актерского факультета, а у нас в это время по сцене гуляли слоны, верблюды и козы... «Может, оно и полезно, но как-то глупо и неприлично», — говорили потом эти преподаватели.
Дело ведь было не только в пластике. Конечно, это было очень важно — понять движения конкретного животного. Но за этими упражнениями стоял Михаил Чехов, их автор. И связанные с животными упражнения точно не ограничивались одной пластикой. М. О. говорила в таких случаях: «Пластику-то вы взяли. Но глаза у вас не кошки (или тигра, или козы)». А затем добавляла: «Ни одна кошка не похожа на другую: все разные». Видимо, и это у нее было от воспитания, от веры. Ведь душа — она и есть душа. У каждого какая-то своя. Вон у нас существо живет (показывает на спящую на кровати кошку. — Ред.). Мы ее получили случайно: хозяйка уехала за границу, а ее сдала в приют. Мой сын примерно в то же время сказал: «Хочу кошку!» Я ответила, что никаких животных в нашем доме не будет, что мне хватает сына и внука. Но в один прекрасный день он заявился домой с сумкой, где вот это сидело. Я в нее влюбилась через день. Это чудо. Такая кротость. Ангел в доме.