Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Такая область междисциплинарных исследований, как animal studies/human-animal studies, зародилась в 1970-е. Она заимствует методологические установки и концептуальные рамки у самого широкого спектра дисциплин: социология, философия, история; литературоведение, искусствоведение, исследования кино и массовой культуры; поведенческая биология; исследования науки, техники, медицины и так далее. Все работы в этом исследовательском поле объединяет поиск новых способов мышления о животных и об отношениях человека и животных (New-Zealand Center for Human-Animal Studies).
Есть много различных определений ключевых понятий для этой междисциплинарной области, но мы обратимся к тем, которые в книге Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies дает антрозоолог Марго ДеМелло (Margo DeMello).
Она пишет, что «Animal studies — термин, использующийся в основном в естественных науках для обозначения научных исследований или медицинского использования нечеловеческих животныхNonhuman animals — термин, призванный снять оппозицию «люди/животные», которая исследователям и активистами считается проявлением дискриминации по видовому признаку (спесишизм)., например, в медицинских исследованиях. Данный термин используется скорее в гуманитарных науках, тогда как в социальных более приемлемым считается human-animal studies».
Поэтому «human-animal studies — это не столько изучение животных как таковых, сколько изучение взаимодействия между людьми и другими животными, взаимодействия между человеческим и нечеловеческим в различных его проявлениях. Для этого используются ресурсы других дисциплин, включая этологию, сравнительную психологию, зоологию, приматологию, их данные о поведении, обучении, познании, коммуникации, эмоциях, культуре животных».
То же самое можно сказать и о понятии «права животных» (animal rights), которое является неотъемлемой частью этой сферы исследований. ДеМелло определяет animal rights как философскую позицию, а также как «общественное движение, выступающее за предоставление нечеловеческим животным морального статуса и, таким образом, основных прав».
Примерно в 2010-х годах оформляется политический подход в исследованиях, а конкретнее в этике (animal ethics) и правах животных как некоторый ответ на усталость от предыдущих дискуссий, а также как признание того, что прежние исследования зашли в тупик. Ключевыми авторами этого поворота являются Сью Дональдсон (Sue Donaldson), Уилл Кимлика (Will Kymlicka), Шивон О’Салливан (Siobhan O’Sullivan), Аласдейр Кокрейн (Alasdair Cochrane) и Роберт Гарнер (Robert Garner).
Политический поворот в противовес теории прав животных (animal rights theory) и этике животных (animal ethics), которые тесно сплетены между собой, заостряет внимание на политическом взаимодействии животных и человека. В отличие от представителей теории прав животных или этики животных, исследователи и исследовательницы внутри политического поворота больше не задаются вопросом, из какой внутренней особенности (свойства) животных могут быть выведены неотъемлемые ценности, а как следствие — и права животных. Вместо этого анализируется, какие практики воспроизводятся между людьми и нечеловеческими существами и как следует интерпретировать смысл или цели таких практик, отношений, структур и институтов, чтобы понять, что с ними не так, преобразовать их и реформировать не только на уровне теории, но и на уровне практики.
Один из первых, кто попытался концептуализировать политический поворот, был Тони Миллиган (Tony Milligan). Он выделяет следующие особенности политического поворота:
1. «Внимание к противоречию между обращением с животными и центральными либеральным ценностями» (свобода, равенство, солидарность). Иными словами, задается вопрос, почему те ценности, на основании которых мы строим общество, не относятся к животным, и не возникает ли тут противоречие в практической реализации этих принципов.
2. Акцент на интересах животных, но в контексте теории права, а не консеквенциализмаТеория, согласно которой выбор действий должен определятся не моральными принципами как таковыми, а последствиями совершаемых поступков. (consequentialism) (Питер Сингер (Peter Singer)). Речь идет, с одной стороны, о том, что мы должны защищать интересы животных не потому, что это принесет пользу, а потому, что наличие этих интересов самоценно (если они есть, их следует удовлетворять). С другой стороны, интересы могут быть напрямую не связаны с определенными свойствами и способностями, которыми обладают животные, под ними подразумевается нечто более широкое. Можно обладать интересами, не имея способности испытывать боль, страдание или наслаждение. Например, интерес в развитии заложенных природой способностей (Марта Нуссбаум (Martha Nussbaum)) или интерес к жизни внутри своей естественной среды обитания. Несмотря на это, понимание животных как существ чувствующих все равно является важной точкой в рассуждениях внутри политического поворота, но рассматривается обычно как неоспоримый факт, нежели как основной предмет дискуссии.
3. «Акцент на позитивных правах, а не только на негативных». Если animal rights theory говорит нам о том, что мы должны оставить животных в покое, гарантировав невмешательство в их жизнь с нашей стороны, то политический поворот настаивает на том, что мы все равно так или иначе пересекаемся с животными и эту историческую связь сложно будет разорвать до конца. Учитывая это, нам нужно сформулировать и наделить животных каким-то спектром прав, которые позволили бы им участвовать в политической жизни общества (или государства), частью которого они являются.
4. «Отказ от центральной роли аргумента от маргинализированных случаев». Аргумент от маргинализированных случаев звучит так: если люди обладают правами, и у общества (государства) по отношению к ним есть прямые обязанности только потому, что люди имеют сознание и речь, тогда правами не обладают маленькие дети и люди с ограниченными возможностями. Теория прав животных пользовалась этим аргументом, чтобы показать, что есть какое-то другое основание для обладания правами, отличное от обладания сознанием, языком и моралью. Роберт Гарнер (Robert Garner), один из представителей политического поворота, выступая против этого аргумента, говорит, что это сравнение неуважительно по отношению к обеим сторонам. Это сравнение также противоречит здравому смыслу: «интуитивно неприемлемо приравнивать маргинализированных людей к животным». И наконец, в действительности общество не позволяет обращаться с маргинализированными людьми так же, как с животными. Последнее из этих возражений самое сильное, потому что показывает: именно принадлежность к одному виду (превознесение человеческого над животным) не позволяет произвольного обращения, а не какие-то другие общие атрибуты. В этом смысле отказ от аргумента от маргинализированных случаев, позволяет некоторым (!) представителям поворота быть более прагматичными, быть реформистами, а не аболиционистами, сохраняя, к сожалению, при этом антропоцентричную оптику.
5. «Прагматическое отношение к политическим обязанностям и компромиссам, отношение, резко контрастирующее с аболиционизмом». Это то, что аболиционист Гэри Фрэнсион (Gary Francione) мог бы называть новым вэлферизмом (new welfarism), который настаивает на улучшении условий содержания животных, а не пытаться избавиться в целом от их угнетения и эксплуатации. Однако здесь речь скорее идет о том, чтобы построить реформистскую концепцию, настроенную на постепенные небольшие изменения, чем на крупные и одномоментные (революционные), которые в конечном итоге должны будут привести к прекращению эксплуатации животных.
Роберт Гарнер, Аласдейр Кокрейн (Aladair Cochrane), Шивон О’Салливан (Siobhan O’Sullivan) не согласны ни с одним из пунктов, которые приводит Миллиган. С одной стороны, эти особенности не настолько однозначны — большой вопрос, являются ли они объединяющими достаточно большое количество исследователей и исследовательниц. C другой стороны, не все эти особенности так уж уникальны именно для политического поворота (есть точка зрения, что движение за права животных изначально было по своей сути политическим). Поэтому Гарнер, Кокрейн, О’Салливан выделяют следующую особенность политического поворота в исследованиях животных:
6. Акцент на понятии справедливости. А именно на том, «как политические институты, структуры и процессы могут быть преобразованы, чтобы лучше (справедливо) служить интересам животных». Исследователи и исследовательницы «намечают форму и характер сообщества, обеспечивающего справедливость как для людей, так и для животных». То есть необходимость включения животных в общие представления о справедливости объявляется неоспоримой истиной.
Марсель Виссенбург (Marcel Wissenburg) и Дэвид Шлосберг (David Schlosberg) добавляют еще несколько характерных черт политического поворота:
7. Акцент на политизации зоозащитного дискурса: «переход от апелляции к индивидуальному сознанию к эффективной и общесоциальной реализации этических предписаний». Имеется в виду, что этика животных работала с конкретным человеком, с его мировоззрением. В этих условиях был некоторый индивидуальный выбор: следовать новым этическим предписаниям или нет. Политический поворот, настаивая на коренных институциональных изменениях, лишает такого выбора, так как за несоблюдение новых правил налагаются санкции.
8. Акцент на сближении этики животных и экологизма. Речь идет о том, что мы не только должны обращать внимание на конкретных животных, но и на среду обитания, в которой они существуют: следить за ней, по минимуму вторгаться и уж точно не разрушать.
Сью Дональдсон (Sue Donaldson) и Уилл Кимлика (Will Kymlicka) также говорят о такой особенности политического поворота, как:
9. «Политическое включение животных в человеческие государства, и наделение властью эти суверенные коллективы животных». На деле это означает, что животные должны стать видимой группой в политическом пространстве, публичной сфере, на которую мы должны будем обращать внимание, прислушиваться к ней при принятии определенных решений, или вообще они могут быть той группой, которая запускает некоторые обсуждения и изменения в материальном мире или в политической сфере.
Ко всему прочему во введении к сборнику статей под названием Political Turn in Animal Ethics, Шивон О’Салливан и Роберт Гарнер пишут, что вообще имеется в виду, когда говорят о политическом повороте.
В первую очередь, «политический поворот заключается в использовании политических концепций, идей и теорий для участия в дебатах о том, чем мы обязаны животным в моральном отношении». Это понятие «можно использовать для описания тех ученых, которые стремились нормативно сосредоточиться на включении интересов животных в процесс коллективного принятия решений и, в частности, в демократическую теорию и практику». Политический поворот относится к работам ученых, которые занимаются эмпирическими исследованиями, «направленными на описание и объяснение политической среды, в которой принимаются коллективные решения в отношении животных».
Sue Donaldson, Will Kymlicka. Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights (2011)
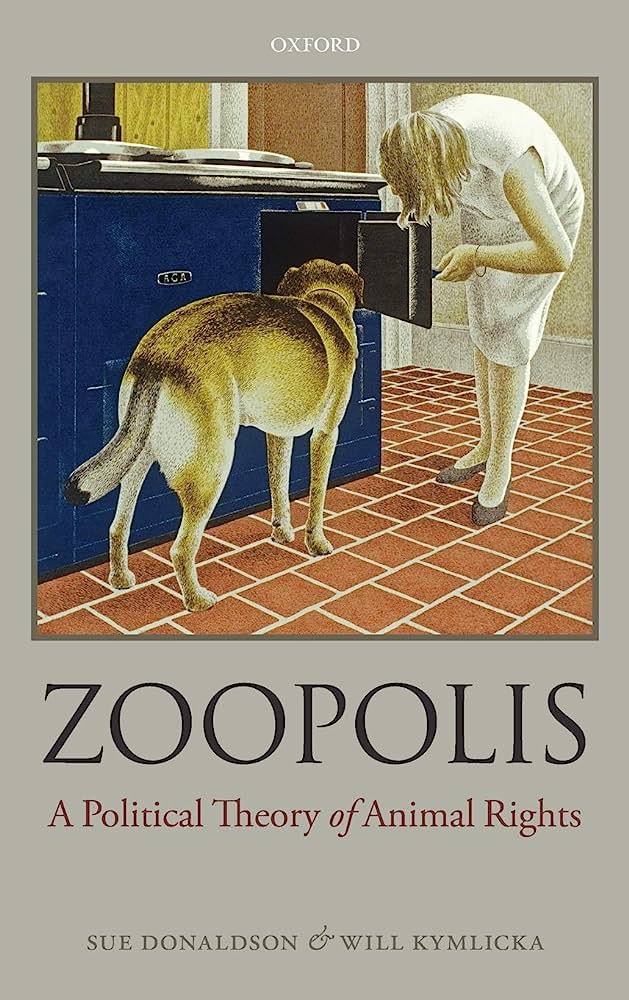 В своей ключевой работе Сью Дональдсон и Уилл Кимлика пишут, что нужно перейти от дискуссий о том, какими свойствами должны обладать животные, чтобы быть включенными в моральное сообщество (то, чем занимались с начала появления animal studies ключевые теоретики, включая Питера Сингера, Тома Ригана (Tom Regan), Гэри Фрэнсиона и так далее), к оспариванию исключения животных из политического пространства.
В своей ключевой работе Сью Дональдсон и Уилл Кимлика пишут, что нужно перейти от дискуссий о том, какими свойствами должны обладать животные, чтобы быть включенными в моральное сообщество (то, чем занимались с начала появления animal studies ключевые теоретики, включая Питера Сингера, Тома Ригана (Tom Regan), Гэри Фрэнсиона и так далее), к оспариванию исключения животных из политического пространства.
Они призывают рассматривать любые отношения, а в частности — отношения между людьми и животными как форму политической ассоциации. То есть уже в силу того, что мы взаимодействуем с животными, что у нас есть определенные отношения с ними, мы обязаны сделать их частью политики. Иными словами, мы должны отталкиваться от интерсубъективного признания: если в нашем доме или на одной с нами территории существует кто-то еще помимо нас, то тогда мы должны признавать его права, регламентировав наши отношения с ним.
В этом взаимодействии мы признаем, что животные являются чувствующими существами и обладают самостью (selfhood), которая позволяет им получать субъективный опыт мира. Поэтому у нас возникает обязанность наделить их неприкосновенными правами (inviolable rights) (правами, которые нельзя нарушить, даже если их нарушение может принести пользу всему человеческому сообществу (Рональд Дворкин (Ronald Dworkin)). Это нужно сделать, чтобы они не стали объектом манипуляций и жертвами чужих интересов в контексте существующих отношений.
Признавая тот факт, что за животными нужно закрепить некоторые неприкосновенные права, animal rights theory останавливается только на негативных правах: мы должны гарантировать животным невмешательство в их жизнь, перестать делать то, что вредит их благополучию. Однако Дональдсон и Кимлика говорят о том, что наши жизни довольно сильно переплетены друг с другом (и избавиться от взаимодействия и отношений не получится), поэтому недостаточно просто гарантировать негативные права. Нужно также закрепить за животными позитивные права, которые позволят им влиять на отношения, в которых они находятся с людьми (и не только).
Именно поэтому Дональдсон и Кимлика предлагают дать одомашненным животным гражданство (citizenship). Они пишут, что гражданство прежде всего функционирует как механизм, который указывает на принадлежность одних индивидов определенной территории, стране. Во-вторых, гражданство также сообщает нам о том, что государства должны быть воплощением гражданского суверенитета, то есть исполнять волю граждан и осуществлять политику от их имени и в их интересах.
Одомашненные животные соответствуют этим двум критериям. Они находятся с нами на одной территории, у нас есть определенные отношения с ними, на основании которых мы можем признать их частью нашего сообщества, а как следствие, и тех, от чьего имени будет вестись политика. Во-первых, у животных есть собственные интересы, желания и предпочтения, то есть представление о благе, которые они выражают невербальными способами, с помощью поведения например. Во-вторых, они участвуют в политике и создании законов через физическое присутствие (гражданство — это значит быть соавтором законов). В-третьих, одомашненные животные на самом деле умнее, чем мы думаем. За столетия сожительства с людьми они научились нас понимать (а мы их). При этом они способны к кооперации, саморегулированию, взаимности и в целом осознают, как делать можно, а как нельзя.
Таким образом, воспринимая одомашненных животных как наших сограждан, мы должны не нарушать их неприкосновенные права и начать регулировать взаимоотношения с ними. Мы должны признать за животными право на свободное передвижение, дать доступ одомашненным животным к использованию публичного пространства; защищать их от вреда, причиняемого человеком, другими животными, природными катастрофами; криминализировать насилие по отношению животным.
Однако есть и другая группа животных — это дикие животные. Им нужен другой правовой статус. Дональдсон и Кимлика пишут, что диких животных следует воспринимать как тех, кто имеет суверенное право на занимаемую территорию (леса, поля, реки, горы). В этом смысле суверенитет (sovereignty) — это безопасная автономная территория, на которой сообщество может жить и процветать. Дикие животные также должны обладать неприкосновенными правами, а наши отношения нужно регулировать не грубой силой, а нормами международного права, потому что они являются фактически другим «государством», если отталкиваться от структуры наших взаимоотношений с ними.
При этом понятие суверенитета должно включать многомерную территорию (это не только земля, но и вода, воздух, подземный мир), факт человеческой и животной мобильности (животные и люди должны иметь возможность пересекать границы зон), возможность для устойчивого и совместного параллельного сосуществования. На этом основании мы не можем отделить процветание животных от процветания сообщества, в котором живут люди, чтобы выстроить такие отношения, в которых мы будем не сильно мешать друг другу. Мы также должны будем ограничить вторжение на территорию диких животных без необходимости (автономия может быть нарушена только в экстраординарных случаях). Ко всему прочему суверенная территория диких животных должна быть освобождена от колонизации, насильственного проникновения, эксплуатации и патерналистского управления.
Однако есть животные, которые не являются одомашненными, но мы не можем охарактеризовать их и как диких. Например, перелетные птицы, крысы, мыши, белки, еноты, скунсы и так далее. Их можно сравнить с мигрантами, туристами, изоляционистскими религиозными группами, которые живут среди нас, но не участвуют в политике и находятся в уязвимом положении. Эта группа требует не столько нашего вмешательства в их образ жизни (и включения в одну из уже существующих групп: одомашненные животные, дикие животные), сколько защиты от насилия, учет интересов и право на проживание.
Таких животных Дональдсон и Кимлика называют лиминальным/пограничным (liminal). Им нужно гарантировать безопасное резидентство (denizenship): право не быть рассмотренными как чужаки, а право быть рассмотреными как те, кто принадлежит нашему сообществу. Резидентство — право обитания на данной территории. На практике таким животным мы должны не слишком мешать жить, перестать их стигматизировать, но и не позволять всегда делать, что они хотят.
Резюмируя. Из утверждения о том, что мы не может разграничить два мира (мир животных и мир людей), что мы постоянно находимся в контакте с животными, Дональдсон и Кимлика делают вывод о том, что мы должны регламентировать политические отношения с ними. Для этого они предлагают закрепить за животными определенные неприкосновенные права, которые будут указывать на статус животного (домашние, дикие, лиминальные), а также на то, каким образом нам следует с ними обращаться, регламентируя наши отношения и наше поведение при взаимодействии с ними.
Они настаивают на том, что мы не можем существовать вне контактов с животными, поэтому мы не должны стараться избавиться от них (как это предлагает сделать Гэри Фрэнсион), а должны всего лишь нормализовать наши отношения с ними. Поэтому они выстраивают концепцию, в которой существует постоянное политическое взаимодействие с животными: оно происходит через физическое присутствие животных в общих для нас пространствах, а также с помощью активного действия (укусов, ласк, звуков и других невербальных способов общения), направленного в нашу сторону. Это позволяет воспринимать интересы животных и реагировать на их потребности переустройством окружающей действительности и деятельной заботой.
Стоит отметить, что после публикации работы Дональдсон и Кимлика получили много критики, на которую активно отвечали. Впоследствии их концепция трансформировалась, о чем можно судить по статьям, которые выходили в последние десять лет: например, вот, вот и вот.
Siobhan O’Sulliavn. Animals, Equality and Democracy (2011)
 В своем исследовании Шивон О’Салливан задается вопросом: влияет ли уровень видимости животного (присутствие животного в поле зрения человека и общественных институтов) на силу законодательной защиты, которую оно получает? О’Салливан пытается продемонстрировать, что такая связь существует.
В своем исследовании Шивон О’Салливан задается вопросом: влияет ли уровень видимости животного (присутствие животного в поле зрения человека и общественных институтов) на силу законодательной защиты, которую оно получает? О’Салливан пытается продемонстрировать, что такая связь существует.
Работа открывается анализом внешнего противоречия, которое заключается «в том, как мы обращаемся с животными по сравнению с людьми». Оно возникает в процессе действия разного рода идеологических и институциональных механизмов, которые обеспечивают большую защиту человеку, нежели животному — например, правовую.
Основное внимание теоретиков движения за права животных было уделено борьбе именно с этим противоречием. Их аргументация строилось следующим образом. Констатируется, что для защиты интересов людей мы используем «один набор критериев», тогда как для животных — совершенно другой, поскольку они не принадлежат к тому же виду, что и мы. Этот подход «проблематичен с моральной точки зрения, так как он рассматривает принадлежность к виду как подходящую основу для морали». Принимая это во внимание, теоретики стремились показать, что, «какие бы привилегии ни получали люди, по крайней мере некоторые животные заслуживают того же»: в зависимости от конкретной школы мысли, которой придерживается тот или иной теоретик, эта привилегия может принимать форму прав (Том Риган), включения в договор, основанный на справедливости (Mark Rowlands), или равного внимания при оценке полезности (Питер Сингер).
«Особенность аргумента, ориентированного на внешнее противоречие, в защиту животных заключается в том, что теоретики обычно определяют процесс преодоления разделения между людьми и животными как ключ к решению проблемы страданий животных». Однако, считает исследовательница, проблема сложнее, и акцент на ней и борьба с внешнем противоречием могут не привести к значительным изменениям, потому что существует еще и внутреннее противоречие.
Внутреннее противоречие — это «противоречие в том, как мы относимся» к одним нечеловеческим животным по сравнению с другими нечеловеческими животными, принадлежащими одному виду.
Как отмечает О’Салливан, исследователи обычно выделяют три важных принципа, на которых базируется это противоречие. К ним относятся: имущественный статус, приписываемый нечеловеческим животным по закону (кто и кому принадлежит); экономическая функциональность этого имущественного положения (продуктивные/непродуктивные); и концепция необходимого страдания. Иными словами, мы позволяем обращаться и обращаемся с одними животными лучше, чем с другими, потому что рассматриваем их как собственность или товар, нам экономически выгодно их использовать в качестве собственности/товара, потому что иной экономический порядок требует больших затрат. Под необходимым же страданием имеется в виду, что «законодатели более склонны ограничивать страдания животных в тех случаях, когда экономическая выгода, создаваемая страданиями, минимальна, но с меньшей вероятностью запрещают страдания животных в тех случаях, когда страдания связаны с высокодоходной экономической активностью».
О’Салливан задается вопросом, является ли экономический фактор «самым важным или даже единственным фактором» в нашем обращении с животными? Короткий ответ: нет. Чтобы прийти к этому выводу, исследовательница обращается к анализу видимости животных (animal visibility) в современном обществе (в ее случае предметом исследования выступает Австралия).
Сначала она выделяет несколько типов видимости, на которые она будет обращать внимание. 1) Прямая общественная видимость (direct popular visibility) — «непосредственное и многократное визуальное, слуховое и обонятельное воздействие животных на тех, кто не имеет прямых имущественных отношений с животными или не участвует непосредственно в процессе извлечения из них прибыли». 2) Косвенная общественная видимость (indirect popular visibility) — означающая «визуальное и слуховое воздействие животных через средства массовой информации или другие популярные системы связи, включая интернет или рекламу». 3) Косвенная видимость посредством государства (indirect visibility via the state): сообщество не видит животных само, его избранные представители смотрят на животных от имени сообществ, создаваемых организациями по защите животных, а также государством и его инспекциям по защите животных.
Далее она пишет, на какие типы животных будет обращать внимание в процессе своего исследования. Это выставочные животные, спортивные животные, животные для охоты; животные-компаньоны; животные, использующиеся в обучении и исследованиях; животные-помощники и животные, работающие на правоохранительные органы; сельскохозяйственные животные.
В процессе анализа медиа и основных правовых актов, которые касаются защиты животных, она приходит к выводу, что во всех случаях, когда у животных хорошая прямая, косвенная общественная видимость и косвенная видимость посредством государства, список законов, защищающих жизнь этих животных, намного шире, чем у тех животных, у которых эта видимость плохая. Например, кролики, которые выращиваются на мясо, намного хуже защищены, чем кролики в контактных зоопарках. Или, например, собаки, выступающие в цирках, намного лучше защищены, чем собаки, которые используются в медицинских исследованиях.
Именно поэтому спесишизмSpeciesism — как правило, антропоцентричная концепция превосходства одних биологических видов над другими. возникает не только тогда, когда человек доминирует над животными, пользуясь большими привилегиями, но и тогда, когда законы, обеспечивающие защиту курицы в контактном зоопарке, превосходят (в количестве и качестве) те законы, которые защищают интересы курицы, выращенной на мясо.
Такое положение дел, когда мы по-разному относимся к животным одного вида с разной видимостью, должно настораживать. Если мы строим наше общество на либерально-демократических принципах, одним из которых является принцип справедливости, возникает противоречие: принцип справедливости по-разному работает для разных животных, когда мы создаем законы, регулирующие их жизнь. Этот перекос говорит нам, что стандарты сообщества (принцип справедливости) не соблюдаются.
Как пишет сама О’Салливан: «Борьба с внутренним противоречием должна быть важной задачей для всех, кто заботится о целостности наших политических институтов».
Alasdair Cochrane. Animal Rights Without Liberation. Applied Ethics and Human Obligations (2012)
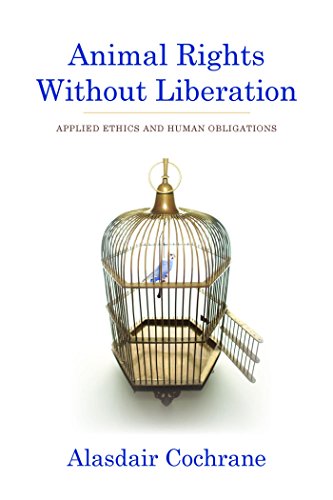 В своей работе Аласдейр Кокрейн придерживается общей для большинства теоретиков прав животных линии аргументации. Он пишет, что животные обладают моральным статусом (статус, позволяющий быть частью морального сообщества, что, в свою очередь, дает возможность быть тем, на кого распространяются этические принципы), так как являются чувствующими существами.
В своей работе Аласдейр Кокрейн придерживается общей для большинства теоретиков прав животных линии аргументации. Он пишет, что животные обладают моральным статусом (статус, позволяющий быть частью морального сообщества, что, в свою очередь, дает возможность быть тем, на кого распространяются этические принципы), так как являются чувствующими существами.
Способность чувствовать (испытывать боль и удовольствие) понимается как «эквивалент феноменального сознания»: если ты способен чувствовать, значит, ты имеешь качественный, субъективный, феноменальный опыт этого мира, ты способен его воспринимать. В доказательство этого автор приводит несколько распространенных аргументов.
1. С точки зрения стороннего наблюдателя, мы можем сказать, что животные ведут себя таким образом, когда, например, кричат, корчат гримасы, избегают некоторых ситуаций. Это говорит в пользу того, что они способны чувствовать.
2. Мы с животными разные, но все-таки сделаны из «одного и того же материала»: у нас есть центральная нервная система, которая позволяет испытывать боль и наслаждение. Именно наличие центральной нервной системы должно быть границей, по которой мы отделяем животных, которые обладают моральным статусом и имеют права на защиту и должны защищаться, от тех, кто не является моральным агентом и этого права не имеет.
3. Мы можем предположить наличие некоторого феноменального опыта у животных, потому что он был бы оправдан и имел бы смысл с эволюционной точки зрения.
Однако тот факт, что животные могут быть моральными агентами, ничего нам не говорит о том, должны ли они обладать правами. Поэтому Кокрейн пишет, что способность чувствовать означает также, что то или иное существо, животное стремится к благополучию. Стремиться к благополучию значит делать все, что идет на пользу твоему собственному благу, то, что в твоих интересах. В этом смысле то, как протекает жизнь — хорошо или плохо, — важно для самого существа.
Для Кокрейна и ряда других авторов стремление к благополучию является «необходимым и достаточными условием для обладания моральным статусом, а также необходимым и достаточным условием для обладания правами». Иными словами, если существо способно чувствовать, то оно всегда будет стремиться к благополучию в своей жизни, стремиться удовлетворить свои интересы. Если оно стремится к этому, значит, у нас есть моральные обязательства перед ним, которые, в свою очередь, могут быть закреплены в виде прав. Это то, что Кокрейн называет interest-based approach. В этом месте он опирается на теорию Джозефа Раза (Joseph Raz) и его формулу: «’X имеет права’ если и только если X может иметь права и, при прочих равных условиях, аспект благополучия (well-being) X (его интерес) является достаточным основанием для того, чтобы считать какое-либо другое лицо (лица) ему (X) обязанным».
Если это так, то вопрос стоит не в том, есть ли у нас «обязательства перед чувствующими нечеловеческими животными», а в том, какие именно у нас есть обязательства перед ними.
Однако это еще не все. Тот факт, что животные должны обладать правами, ничего не говорит нам о том, является ли такая стратегия защиты животных приемлемой: могут ли быть права «подходящим средством для формирования наших обязательств перед ними». Если мы взглянем на альтернативную модель защиты интересов животных (утилитаризм), то увидим, что в некоторые моменты утилитаризм готов пренебречь интересами животных (и любых других индивидов), если это принесет наибольшее благо для наибольшего числа индивидов. Поэтому, считает Кокрейн, это не совсем подходящая рамка для защиты животных, так как она рассматривает их как простые вместилища ценностей (receptacles of values): они ценны настолько, насколько большой вклад они могут сделать в общее дело. Кокрейн придерживается другой стратегии и говорит, что нужно рассматривать животных как самоценных, делая акцент на благополучии индивидуальной сущности, а не на благополучии общества, которое может получить выгоду от отказа рассматривать интересы индивида. Животные обладают самоценностью, так как их жизнь для них самих может складываться хорошо или плохо, и они способны это осознавать.
Итак, для Кокрейна аспект благополучия (интересы индивида) — это достаточное основание для того, чтобы обладать правами.
До этого момента Кокрейн следовал известными тропами в исследовании животных. Далее он предлагает качественно новый взгляд. Он пишет, что те права, которые политическое сообщество должно животным, «вырабатываются путем установления моральных прав животных, которые, в свою очередь, вырабатываются путем тщательного учета их интересов в определенных контекстах». Такой подход, с одной стороны, не говорит нам, что все интересы должны быть преобразованы в права. А с другой стороны, не предлагает окончательного списка прав животных, давая возможность каждому политическому сообществу закрепить за животными те права, которые им нужны, исходя из определенного политического, правового и социального контекста. Между тем такой подход безоговорочно настаивает на том, чтобы животные были признаны частью политического сообщества, чьи интересы учитывались бы при распределении общественных благ.
Чтобы такая модель работала лучше, Кокрейн добавляет в свою концепцию различие между правами prima facie и конкретными правами. «Права prima facie — это те права, которые существуют на более абстрактном уровне вне конкретных обстоятельств». Тогда как конкретные права «являются правами „с учетом всех обстоятельств“ и устанавливаются путем пристального внимания к конкретным обстоятельствам каждого конкретного случая».
Исходя из того, что животные имеют моральный статус, так как они являются чувствующими существами, которые заинтересованы в благополучной жизни, мы должны закрепить за ними те права, которые будут обеспечивать их благополучную жизнь. Поэтому, с точки зрения Кокрейна, животные обладают prima facie правами и конкретными правами не страдать и не быть убитыми. Однако они не обладают prima facie правом быть свободными, так как, по мнению автора, не являются автономными существами.
Он пишет, что быть автономным существом — значит иметь определенные цели и проекты, которые ты хочешь реализовать. И люди, и животные имеют цели и жизненные проекты. Но проблема в том, что животные могут обладать лишь краткосрочными целями и желаниями, в отличие от людей, они не получают «немедленного удовлетворения» от реализации своих проектов, у животных нет планов на далекое будущее и вообще психологическая связь животных с будущим своего «я» достаточно хрупка. Ко всему прочему животные не способны выбирать собственные цели, их жизненный проект и соответствующие цели заложены природой. Исходя из этого, Кокрейн заявляет, что мы не должны гарантировать животным свободу, потому что они не заинтересованы в свободе как таковой.
Robert Garner. A Theory of Justice for Animals. Animal Rights in a Nonideal World (2013)
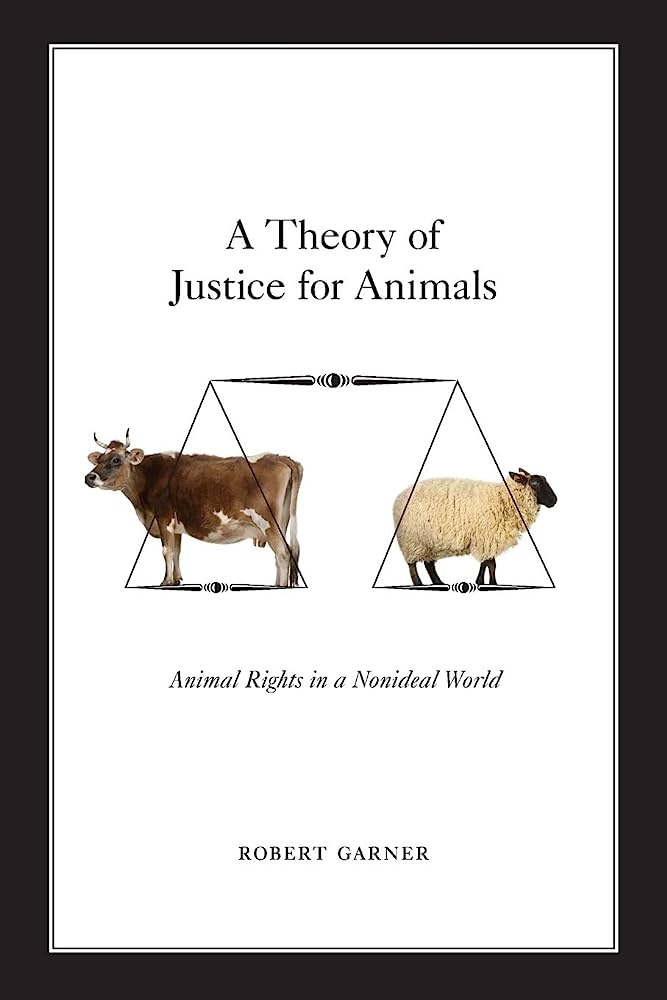 На мой взгляд, книга Роберта Гарнера преследует две цели. Первое — пытается найти основание для соблюдения прав животных. Второе — предлагает неидеальную политическую теорию прав животных.
На мой взгляд, книга Роберта Гарнера преследует две цели. Первое — пытается найти основание для соблюдения прав животных. Второе — предлагает неидеальную политическую теорию прав животных.
Начнем с прояснения первой цели. Большинство предыдущих теорий были сосредоточены на том, чтобы доказать, что животные так же, как и люди, могут обладать правами. Но они упускали одну важную деталь: даже если животные могут обладать правами, то почему мы должны им их гарантировать; что заставляет нас это делать?
Пытаясь ответить на этот вопрос, Гарнер, отталкиваясь от теории прав животных, основанной на интересах, безусловно считает, что так как животные являются чувствующими существами, которые обладают интересом не страдать (интерес избегать боль и стремиться к наслаждению), и что у них есть заинтересованность в благополучной жизни (well-being), то тогда мы можем сказать, что животным присущ моральный статус и они обладают внутренней ценностью сами по себе. С другой стороны, это значит, что животные обладают правами и у нас есть прямые обязанности по отношению к ним. Однако, оставаясь в моральной (этической) и правовой плоскости теоретических рассуждений, мы не касаемся вопроса о том, почему вообще мы должны (и должны ли) гарантировать соблюдение прав животных. Из этих рассуждения напрямую не следует, что мы должны соблюдать права животных.
Именно поэтому Гарнер считает: чтобы такая модель работала, нужно обратиться к принципу справедливости и сделать животных бенефициарами работы принципа справедливости, потому что, по мнению автора, справедливость влечет за собой юридическое и политическое принуждение. Гарнер рассматривает справедливость как часть области морали, которая отличается от других областей тем, что является принудительной к исполнению. Если внести животных в сферу справедливости, тогда вопрос о правах животных станет вопросом политическим. Как следствие, за несоблюдение прав животных, можно будет накладывать ограничения на граждан.
На вопрос, почему животные должны быть включены в понятие справедливости, Гарнер отвечает от противного. Во-первых, автор предполагает, что, если мы отказываем животным в том, чтобы быть внесенными в категорию справедливости, тогда мы вряд ли будем рассматривать их как тех, кто заслуживает заботу в соответствии с тем, что они принадлежат моральной сфере, и поэтому мы не будем обращаться с ними так, как того требует такая забота. Иными словами, если животные не будут включены в принцип справедливости, то соблюдение их прав является вопросом личных предпочтений. Если права — это вопрос предпочтений, значит, понятийно правами они не являются. А так как соблюдение прав (интересов) животных не должно быть вопросом предпочтения, нужно, чтобы они были вопросом справедливости. Во-вторых, оправдать государственную защиту прав животных будет намного труднее, если мы не будем смотреть на них сквозь призму справедливости. Справедливость — это не про личный выбор, а про обязанность, которая обеспечивается государством.
Но каким образом сделать животных частью работы принципа справедливости? Как было отмечено выше, если животные являются чувствующими существами и, как следствие, заинтересованы в благополучной жизни, значит, они могут быть включены в область морали (на животных распространяются этические принципы). А если справедливость — это часть области морали, то и животных мы можем рассматривать как тех, кто претендует на то, чтобы по отношению к ним также работал принцип справедливости. Справедливость при этом рассматривается как принцип равного учета интересов.
Вторая цель, которую преследует автор заключается в том, чтобы создать неидеальную теорию справедливости для животных. В этом месте он спорит с аболиционизмом (Гэри Фрэнсион) и позицией видового эгалитаризма, рассматривая их как нереалистичные для претворения в жизнь в ближайшем будущем. Именно поэтому он берет ролзовское (Джон Ролз) различие между идеальной и неидеальной теорией, чтобы выстроить более последовательную теорию и политическую тактику, которая могла бы сработать в действительности.
Гарнер пишет, что «идеальная теория, по Ролзу, «представляет собой концепцию справедливого общества, которого мы должны достичь, если сможем». Она «эквивалентна тому, что Ролз описывает как реалистическую утопию», предполагающую «принятие людей такими, какие они есть, и законов такими, какими они могли бы быть».
В свою очередь, неидеальная теория «рассматривает, как долгосрочная цель идеальной теории „может быть достигнута или направлена в сторону достижения, <...> постепенными шагами“». Неидеальная теория — это реалистичный последовательный план для претворения в жизнь идеальной теории. Она представляет из себя «процесс, а не конечную точку».
В двух этих теориях, по мнению Гарнера, должны работать две немного отличающиеся друг от друга теории справедливости. Идеальной теории должна быть присуща улучшенная чувственная теория (enhanced sentience position). Она нам говорит о том, что если животные способны испытывать боль и страдания, значит, мы должны создать условия, в которых они не будут страдать, а также некоторым из них мы будем должны гарантировать жизнь и свободу.
Напротив, в неидеальной теории работает обычная чувственная теория (sentience position), которая говорит нам о том, что, исходя из принципа справедливости, мы должны сделать так, чтобы животные не страдали: запрещается «причинение страданий животным ради блага человека», но безболезненное убийство не является морально проблематичным. Поэтому такая теория позволяет продолжать использовать животных в промышленном животноводстве и в научных исследованиях.
Гарнер считает, что такой подход в отношении животных в контексте неидеальной теории с ее обычной чувственной теорией намного проще реализовать практически (через государственные институты), а также, что он лучше ложится на существующее сегодня отношения большинства людей к животным: большая часть все-таки не готова быть последовательными аболиционистами, поэтому постепенное движение в сторону идеальной теории через неидеальную выглядит куда более реалистичным.
Как мы видим, Гарнер предлагает нечто среднее между аболиционизмом (с его одномоментным, полным, революционном отказом от эксплуатации животных) и велфэризмом (с его позицией, что, признавая наличие страданий животных, мы должны просто стремиться к уменьшению этих страданий, но не отказываться от их эксплуатации, так как выгода человека от их использования превышает благополучие животных). Его теория прагматична в отношении существующего использования животных, при этом она сохраняет черты некоторого утопичного светлого будущего.
Через десять лет после публикации представленных выше работ, что можно сказать об авторах и авторках и их концепциях? Все они, конечно, были хорошо и с интересом восприняты в академическом сообществе, но также, несомненно, получили долю критики.
О’Салливан, Кокрей и Гарнер в 2016 году издали упомянутый в начале сборник статей Political Turn in Animal Ethics, посвященный политическому повороту, где они развивают, дополняют или просто еще раз артикулируют свои идеи.
Шивон О’Салливан ничего больше не писала по этой теме, а в сборнике просто коротко изложила основные идеи своей книги. Но она все еще занимается этой темой, является основательницей и ведущей подкаста, посвященного исследованиям животных Knowing Animals, а также участницей Australasian Animal Studies Association.
Роберт Гарнер для сборника написал статью, где рассуждает об участии животных в политике и предлагает предоставить животным право голоса в демократических дискуссиях через своих представителей. Помимо этого стоит отметить, что у него достаточно обширная монография, есть много более старых публикаций, написанных еще в 1990-е и 2000-е.
Аласдейр Кокрейн в некотором смысле в противовес концепции Дональдсон и Кимлики написал работу (Sentientists Politics (2018)), которая пытается посмотреть на дискурс прав животных сквозь космополитическую рамку. Также у него недавно вышла работа с говорящим названием Should Animals Have Political Rights? (2020). В сборнике же он опубликовал статью, где пишет о том, что животным нужны трудовые права, а именно «право на представительство в профсоюзе, право на достойное вознаграждение, право на здоровые и безопасные условия труда, право на отдых и досуг и право на достойную пенсию».
Сью Дональдсон и Уилл Кимлика оказались намного более плодотворными, в отличие от всех остальных авторов. Они достаточно активно отвечали на критику после выпуска своей работы. Также впоследствии под ее влиянием и под впечатлением от новых постгуманистических онтологий (ссылок в самих работах на представителей этого направления вы не найдете, однако они активно сотрудничают и пишут совместно статьи с теми, кто именно пытается синтезировать новые онтологии, политическую теорию и исследования животных) они преобразовали свою концепцию.
В целом политический поворот вдохнул новую жизнь в исследования животных. Теперь же он начал двигаться в сторону сближения с новыми онтологиями, новыми материализмами, уходя в сторону от этой аналитической рамки (хотя часть авторов от нее никуда и не ушло — я имею в виду прежде всего О’Салливан, Гарнера и Кокрейна: в этом смысле аналитики плохо восприимчивы к новым веяниям и в некоторой степени замкнуты сами на себе, хотя и участвуют в дискуссии по поводу включения животных в теоретическую рамку делиберативной демократии) в сторону сближения с континентальной философией и critical animal studiesАкадемическая область исследований, посвященная упразднению эксплуатации, угнетения и господства над животными..
В связи с этим движением в сторону новых материализмов больший интерес приобрел второй смысл политического поворота, который пытается вписать животных в демократическую теорию и сделать их участниками демократической политики.
Эта тенденция стала больше проявляться из-за того, что исследователи и исследовательницы начали обращать внимание на агентность (agency) животных (это может быть десятым свойством политического поворота), их самопроявление (иногда в форме сопротивления), самовольные действия (self-willed actions) в предельно широко понимаемом политическом пространстве, благодаря которому они рассматриваются не как пассивные объекты, о которых и за которых принимаются решения, а как непосредственные участники процесса принятия решений о самих себе и о тех пространствах, внутри которых они сосуществуют с другими животными или с людьми.
Эту тенденцию можно заметить в работах таких исследователей и исследовательниц, как, например, Ева Мейер (Eva Meijer), Шарлот Блаттнер (Charlotte Blattner), Вайолет Пуйяр (Violette Pouillard), Кэтрин Гиллеспи (Katherine Gillespie), Клеменс Дриссен (Clemens Driessen), Андреас Филиппопулос-Михалопулос (Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos) и других.
Стоит, правда, отметить, что разговоры об агентности и сопротивлении животных внутри этого исследовательского поля были и раньше. Например, можно вспомнить широко известную и часто цитируемую работу Джейсона Храйбла (Jason Hribal) Fear of the Animal Planet: The Hidden History of Animal Resistance (2010) про сопротивление животных или сборник под названием Animals and Agency: An Interdisciplinary Exploration (2009) под редакцией Сары Макфарланд (Sarah McFarland) и Райана Хедигера (Ryan Hediger). C другой стороны, были и попытки критически посмотреть на теорию прав животных с постугамнистической точки зрения, например в работе Кэри Вулфа (Cary Wolfe) Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory (2003). Однако можно сказать, что синтез этих тем и демократической теории стал неотъемлемой частью исследования животных только к концу 2010-х.
