The Muzhik
Александр Иванов — о Джоне Бёрджере
 Александр Иванов
Александр Иванов
Расположившись перед картиной Сандро Боттичелли «Венера и Марс» из собрания лондонской Национальной галереи, ведущий незаметным движением достает из кармана перочинный нож и вырезает из холста (раздается характерный режущий звук) прямоугольник с лицом Венеры. Монтажная склейка.
Этот и другие подобные приемы, использованные Джоном Бёрджером в сериале BBC «Искусство видеть» (Ways of Seeing, 1972), хорошо знакомы российскому зрителю по фильмам Леонида Парфенова: ведущий помещается в постановочное (или реальное) «историческое» место и, ведя оттуда репортаж, манипулирует в кадре с подлинными мемориальными предметами (или их муляжами) и фрагментами интерьеров или ландшафтов.
Фильм не был высокобюджетным — съемки проходили всего в двух местах: собственно, в National Gallery и в небольшой съемной студии в Илинге, где как раз и был инсценирован фейковый музейный зал и сам акт вандализма. Этой сценой Бёрджер сумел продемонстрировать, что вандализм тоже может стать примером инклюзивного и иммерсивного отношения с музеем и произведениями искусства — своего рода вариантом сотворчества с художниками и арт-институциями.
В своих «московских» текстах Вальтер Беньямин (кстати, один из любимейших авторов Бёрджера) описывает посещение Третьяковской галереи и Музея нового западного искусства (коллекции Щукина). Третьяковская галерея понравилась Беньямину больше, чем щукинское собрание постимпрессионистов. И чем же? Как раз своей инклюзивностью, переориентацией от знаточеского поклонения шедеврам на художественное воспитание массового зрителя: «Нет большей и более прекрасной неожиданности для человека, знакомящегося с московскими музеями, чем видеть, как непринужденно проходят по этим залам дети и рабочие, группами, иногда вокруг экскурсовода, иногда по отдельности. Здесь нет и следа от безнадежной скованности изредка появляющихся в наших музеях пролетариев, которые едва осмеливаются попадаться на глаза другим посетителям. В России пролетариат действительно начал овладевать буржуазной культурой, у нас же пролетариату такое действие покажется чем-то вроде кражи со взломом (курсив мой. — А. И.)».
Бёрджер практически без изъятий заимствует как беньяминовский образ музейной «кражи со взломом» (у него — с вырезанием), так и его идею музея как дидактической машины. Согласно Бёрджеру, видит не глаз художника и зрителя, а весь человек целиком — в единстве своих материальных и нематериальных свойств и способностей, всех своих социальных и культурных привычек. Человек видит своим габитусом. Это видение этично, а не морально, поскольку имеет дело не с моральными суждениями и о-суждениями, а с потенциями и имманентными, т. е. присущими самим телам художника и зрителя, движениями. Например, чтобы правильно увидеть написанный Ван Гогом незадолго до смерти пейзаж «Вороны над пшеничным полем», нужно смотреть на него практически лёжа перед картиной или опустившись перед ней на корточки. Почему? Потому что горизонт на этой картине необычно опущен вниз — как если бы Ван Гог писал ее, лёжа на земле. А, например, чтобы правильно смотреть на полотна Караваджо, необходимо примерить на себе образ жизни и способ глядеть на мир городских popollacio, артистичных итальянских гопников начала XVII века, детей подземелья.
 Иными словами, Бёрджер предлагает смотреть на произведение искусства так, как смотрят на него художники, а не зрители, даже если это самые искушенные зрители вроде экспертов, коллекционеров или арт-критиков. Короче говоря, автор «Искусства видеть» настоятельно советует нам в самом акте видения отказаться от критерия вкуса, от его валоризации в качестве главной эстетической категории. У художника (пока он художник, а не ценитель-эстет) вкуса нет — как нет его у обезумевшего Ван Гога, лежащего с мольбертом в пшеничном поле под Арлем, или у знатока трущоб Караваджо с его театрализованными картинами-сценами, освещенными искусственным светом, который исходит не из окна или светильника, а из темноты необъятного мрака вселенной. Согласно Бёрджеру, точное, адекватное видение произведения искусства возможно не через «суждение вкуса», а через то, что Спиноза (еще один его кумир) называл conatus’ом — упорствованием в бытии, концентрацией всех сил в проживании момента видения.
Иными словами, Бёрджер предлагает смотреть на произведение искусства так, как смотрят на него художники, а не зрители, даже если это самые искушенные зрители вроде экспертов, коллекционеров или арт-критиков. Короче говоря, автор «Искусства видеть» настоятельно советует нам в самом акте видения отказаться от критерия вкуса, от его валоризации в качестве главной эстетической категории. У художника (пока он художник, а не ценитель-эстет) вкуса нет — как нет его у обезумевшего Ван Гога, лежащего с мольбертом в пшеничном поле под Арлем, или у знатока трущоб Караваджо с его театрализованными картинами-сценами, освещенными искусственным светом, который исходит не из окна или светильника, а из темноты необъятного мрака вселенной. Согласно Бёрджеру, точное, адекватное видение произведения искусства возможно не через «суждение вкуса», а через то, что Спиноза (еще один его кумир) называл conatus’ом — упорствованием в бытии, концентрацией всех сил в проживании момента видения.
Это немного напоминает известную сцену из «Цветочков» св. Франциска Ассизского. В притвор, где молится святой, заходит человек. Смущаясь, он обращается к Франциску и признается, что не знает ни одного слова молитвы. «А кто ты? Чем занимаешься?» — спрашивает святой. «Я цирковой танцор», — отвечает тот. «Так станцуй перед Мадонной, она понимает и этот язык тоже, просто сделай это хорошо, со всем доступным тебе усердием и талантом», — советует Франциск. «Изо всех сил сконцентрируйся на картине. Собери все, что ты до этого знал, чувствовал или чему тебя учили касательно этого образа. А затем, когда твоя мысль станет похожей на физическое усилие, еще сильнее всмотрись в картину. После этого, с полной ясностью и настолько просто, насколько достанет сил, начинай рассказывать о том, что ты видишь. Таков, по сути, метод Бёрджера», — сказал как-то британский писатель и арт-критик Джефф Дайер.
Само собой разумеется, Бёрджер вызывал раздражение у профессиональных экспертов-искусствоведов. Он и сам их не слишком жаловал, называя «чинушами, состоящими на службе у ностальгии правящего класса периода упадка». Поэтому вполне логичным выглядело его решение переехать жить в деревню. В 1975 году, на деньги, заработанные от «Искусства видеть» (фильма и написанной по его следам книги-бестселлера), он покупает сельский дом в деревне Кенси (Quincy) на юго-востоке Франции в департаменте Верхняя Савойя. Тут, в окружении гор, лесов, животных и крестьян, простых мужиков, которых, по словам биографа Бёрджера Энди Мерифилда, даже их жены называли твердолобыми, он попытался разрешить одну (не самую известную) кантовскую антиномию.
 В «Критике способности суждения», в разделе «О динамически возвышенном в природе», Кант сообщает нам о некоем «добром савойском крестьянине», который, со слов Горация Соссюра, французского геолога и географа, одного из первых покорителей Монблана, не слишком жаловал любителей возвышенного. Здесь не место подробно вдаваться в кантовскую теорию возвышенного, и все же позволим себе несколько слов для напоминания. Возвышенное у Канта оппонирует прекрасному и означает поражение разума в его попытке постичь бесконечность и могущество природы. Это, однако, такое поражение, которое расширяет способности души и как бы позволяет увидеть нечто сверхчувственное, идеальное в чувственном и материальном (горных вершинах, или Млечном Пути, или безднах ущелий). Мы, с одной стороны, испытываем перед такими объектами удивление, граничащее со страхом, а с другой — с радостью обнаруживаем в себе способность соотнести это природно-возвышенное с бесконечностью нашего разума и тем самым примирить одну бесконечность (природы) с другой (разума) и получить от этого редкое по силе эстетическое наслаждение. Кант называет подобное наслаждение удовольствием от «интеллектуальной красоты». Так вот, «некий добрый и в остальном вполне разумный савойский крестьянин, — пишет Кант, — не задумываясь называл (как рассказывает господин де Соссюр) всех любителей покрытых ледниками гор глупцами. Впрочем, кто знает, так ли уж он неправ, если подобный созерцатель, как большинство путешественников, подвергает себя опасностям, которые его там ждут, только для развлечения или для того, чтобы потом патетически описывать свои подвиги?» Бёрджер, переехав жить в горную деревню, как раз и попытался примирить свою любовь к возвышенному (проще говоря, свои удовольствия от занятий искусством, литературой, общения с художниками и интеллектуалами) с крестьянским, мужицким скепсисом в отношении такого рода «интеллектуальных» удовольствий. Порукой ему было желание совместить собственный марксизм с такой практической философией, где нашлось бы место не книжным, а органически-возвышенным состояниям и целям. Настало время критике и критической теории (а именно ее герои — Маркс, Беньямин, Лукач, Грамши — главные интеллектуальные союзники Бёрджера времен «Искусства видеть») уступить место светлой радости от того, что было, есть и будет всегда — другими словами, пришел момент отдать первенство мудрости.
В «Критике способности суждения», в разделе «О динамически возвышенном в природе», Кант сообщает нам о некоем «добром савойском крестьянине», который, со слов Горация Соссюра, французского геолога и географа, одного из первых покорителей Монблана, не слишком жаловал любителей возвышенного. Здесь не место подробно вдаваться в кантовскую теорию возвышенного, и все же позволим себе несколько слов для напоминания. Возвышенное у Канта оппонирует прекрасному и означает поражение разума в его попытке постичь бесконечность и могущество природы. Это, однако, такое поражение, которое расширяет способности души и как бы позволяет увидеть нечто сверхчувственное, идеальное в чувственном и материальном (горных вершинах, или Млечном Пути, или безднах ущелий). Мы, с одной стороны, испытываем перед такими объектами удивление, граничащее со страхом, а с другой — с радостью обнаруживаем в себе способность соотнести это природно-возвышенное с бесконечностью нашего разума и тем самым примирить одну бесконечность (природы) с другой (разума) и получить от этого редкое по силе эстетическое наслаждение. Кант называет подобное наслаждение удовольствием от «интеллектуальной красоты». Так вот, «некий добрый и в остальном вполне разумный савойский крестьянин, — пишет Кант, — не задумываясь называл (как рассказывает господин де Соссюр) всех любителей покрытых ледниками гор глупцами. Впрочем, кто знает, так ли уж он неправ, если подобный созерцатель, как большинство путешественников, подвергает себя опасностям, которые его там ждут, только для развлечения или для того, чтобы потом патетически описывать свои подвиги?» Бёрджер, переехав жить в горную деревню, как раз и попытался примирить свою любовь к возвышенному (проще говоря, свои удовольствия от занятий искусством, литературой, общения с художниками и интеллектуалами) с крестьянским, мужицким скепсисом в отношении такого рода «интеллектуальных» удовольствий. Порукой ему было желание совместить собственный марксизм с такой практической философией, где нашлось бы место не книжным, а органически-возвышенным состояниям и целям. Настало время критике и критической теории (а именно ее герои — Маркс, Беньямин, Лукач, Грамши — главные интеллектуальные союзники Бёрджера времен «Искусства видеть») уступить место светлой радости от того, что было, есть и будет всегда — другими словами, пришел момент отдать первенство мудрости.
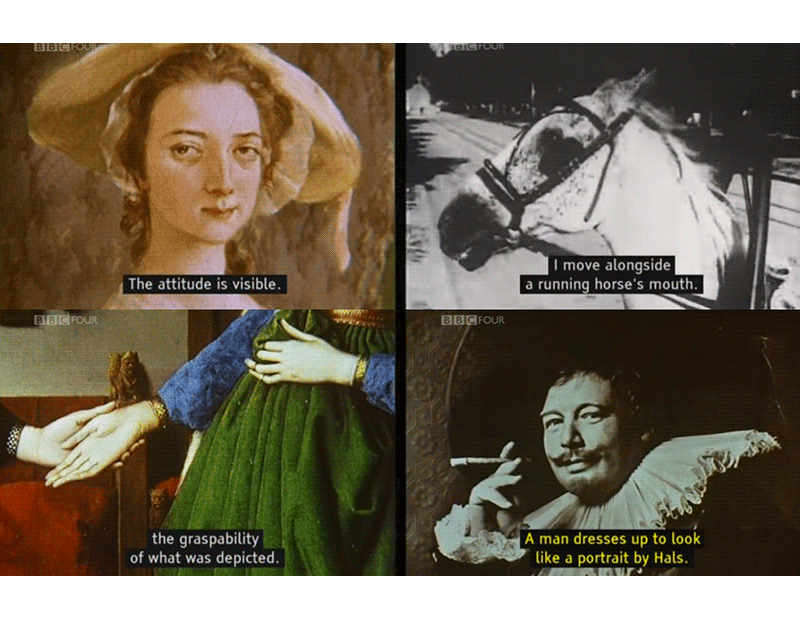 В интервью газете «Санди Таймс» в 2008 году Бёрджер говорит: «Проблема с марксизмом состоит в том, что в нем нет настоящего места для этики <...> в нем много мест, где говорится о борьбе за справедливость против несправедливости, но понятия о том, что поступок может сам по себе быть добрым или злым, этого в нем нет. Нет в нем и места для того, что находится вне времени или, если угодно, для вечности. Существует <однако> возможность сочетать марксизм с иными философскими воззрениями, не столь однобоко материалистичными». Бёрджеровский марксизм перерастает в марксизм-спинозизм. И тут же в его творчестве и жизни возникает несколько проблем и целая серия возможностей, рожденных его новой жизненной философией. Во-первых, марксистский историзм с его эсхатологией сменяется у Бёрджера спинозистской этикой, в которой практически нет истории как бесконечной череды событий, зато есть вечность как одновременность сил, стремлений и претерпеваний. Морализм раннего Бёрджера окончательно уступает место этике. На смену моралистическому вопрошанию «Что ты должен?» приходит этический вопрос «Что тебе по силам?». Для Бёрджера это типичный вопрос крестьянина, обращенный им ко всему живому в его телесной, чувственной потенции, в его способности рождать новое и тем самым сохранять уже существующее. Именно эти интуиции пронизывают две поздние книги Бёрджера — «Блокнот Бенто» и «Зачем смотреть на животных?», в которых он, не отказываясь от критической позиции, говорит миру да, поет славу всему живому и земному.
В интервью газете «Санди Таймс» в 2008 году Бёрджер говорит: «Проблема с марксизмом состоит в том, что в нем нет настоящего места для этики <...> в нем много мест, где говорится о борьбе за справедливость против несправедливости, но понятия о том, что поступок может сам по себе быть добрым или злым, этого в нем нет. Нет в нем и места для того, что находится вне времени или, если угодно, для вечности. Существует <однако> возможность сочетать марксизм с иными философскими воззрениями, не столь однобоко материалистичными». Бёрджеровский марксизм перерастает в марксизм-спинозизм. И тут же в его творчестве и жизни возникает несколько проблем и целая серия возможностей, рожденных его новой жизненной философией. Во-первых, марксистский историзм с его эсхатологией сменяется у Бёрджера спинозистской этикой, в которой практически нет истории как бесконечной череды событий, зато есть вечность как одновременность сил, стремлений и претерпеваний. Морализм раннего Бёрджера окончательно уступает место этике. На смену моралистическому вопрошанию «Что ты должен?» приходит этический вопрос «Что тебе по силам?». Для Бёрджера это типичный вопрос крестьянина, обращенный им ко всему живому в его телесной, чувственной потенции, в его способности рождать новое и тем самым сохранять уже существующее. Именно эти интуиции пронизывают две поздние книги Бёрджера — «Блокнот Бенто» и «Зачем смотреть на животных?», в которых он, не отказываясь от критической позиции, говорит миру да, поет славу всему живому и земному.
До последних дней Бёрджер оставался тем, кого в России середины и конца XX века принято было называть «хорошим мужиком» — со всеми гендерно приемлемыми (и не очень) коннотациями, которыми обросло это выражение в наши дни. Он легко ладил с людьми, мог поддержать беседу как с соседом Марселем, владельцем пятидесяти коров и знатным деревенским бутлегером, гнавшим крепчайшую яблочную самогонку «ньёль» (gnôle), так и с Анри Картье-Брессоном или Эрнстом Неизвестным, приезжавшими погостить в его деревенский дом. Он едва ли не до 90 лет гонял по горным дорогам на мотоцикле и считал, что линия, проложенная передним колесом его «Хонды», сродни линии его рисующей руки. Он держал домашний скот и занимался всеми крестьянскими работами — от косьбы до заготовок на зиму. Единственными, кого не выносил Бёрджер, были отдельные диссиденты из Восточной Европы (типа Милана Кундеры) с их антикоммунизмом, снобистской любовью к высокой культуре и брезгливостью к дерьму и вообще всему низкому. Именно для них у Бёрджера всегда наготове был анекдотAndy Merrifield. John Berger, London: Reaktion Books, 2012, p. 12., который рассказали в школе его сыну. «Розовощекое яблоко упало с ветки и оказалось рядом с коровьей лепешкой. „Доброе утро, госпожа Яблоко, — сказала лепешка, — как поживаете?” Никакого ответа от яблока — этот разговор явно ниже его достоинства. „Хорошая погода, не правда ли, госпожа Яблоко?” Снова тишина в ответ. Через пару минут какой-то прохожий видит яблоко, поднимает его и начинает есть. „Скоро увидимся, госпожа Яблоко”, — бросает ему вслед неугомонная коровья лепешка».