Святые да водяные
Пять книг про подлинную русскую духовность
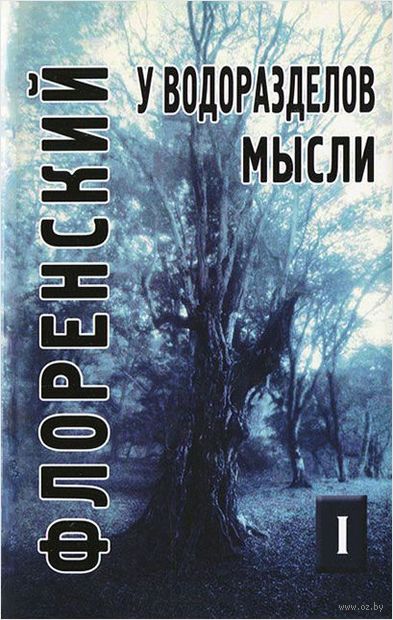 Павел Флоренский, «У водоразделов мысли»
Павел Флоренский, «У водоразделов мысли»
Если небеса есть (а мы надеемся, что они есть), то Павел Флоренский смотрит на нас со справедливым укором. За свою относительно недолгую жизнь он успел побывать богословом, математиком, биологом и много еще кем, прежде чем стать жертвой репрессий.
В этой работе отец Павел подводит итог многим из своих философских изысканий, то довольно запутанных, то невероятно ясных. Кульминацией трактата становятся рассуждения Флоренского об имяславии и структуре языка и мышления.
Впрочем, самое ценное в этой книге для нас, мало сведущих в тонкостях православного богословия, — прозаические фрагменты, которыми она открывается. И только их достаточно, чтобы понять, насколько дивно творение Флоренского.
«Порою, вечерами, бродил я по холмам и лугам. Набегающая прохлада заката омывала душу от волнения и тревоги. Вспоминалось о том первозданном ветерке вечернем, в котором и которым говорил прародителям Создатель их; и это воспоминание пробегало по спине прохладным восторгом. Полузабытое и всегда незабвенное золотое время Эдема, как отлетевший сладкий сон, вилось около сердца, трепетало, задевало крылом — и снова улетало, недоступное. Грустилось о былом, былом в веках и где-то вечно живом, живущем и доныне; и благодатная грусть сливалась с влажным сиянием Звезды Вечерней, такой бесконечно далекой, светящей из прозрачных изумрудовых бездн, и такой близкой, заходящей в сердце. Где-то вдали мерцала пастушья теплина. И милой была она. И милыми были все сидевшие возле. И, как ранее, в Звезде Утренней, так и теперь, в Звезде Вечерней, сердце любило — Кого-то.
Но скорби не проходили, все уплотнялись. Они стали нестерпимыми, терзали до боли, до крика. Тусклым лучом проницала Звезда; тягостны были слова утешения».
 Леонид Липавский, «Исследование ужаса»
Леонид Липавский, «Исследование ужаса»
Все мы прекрасно знаем и любим Хармса, Введенского, Олейникова, Вагинова. Но, как ни странно, так называемый «широкий читатель» постоянно забывает о философе Липавском и его замечательном труде «Исследование ужаса», квинтэссенции ОБЭРИУ.
В этой книге философ со всех сторон рассматривает феномен ужаса, чтобы докопаться до его корневища и тем самым обезоружить саму идею страха. Для этого он прибегает к бесконечным самоповторам, плеоназмам, трюизмам и другим непотребствам, которые бы в наше время вычистил любой редактор.
Своими лапидарными зарисовками Липавский открывает доселе неизведанную грань русской мысли — одновременно глупой и бесконечно мудрой. «Всякий страх есть страх перед оборотнем» — это, безусловно, одно из самых верных наблюдений в истории литературы.
Но особенно Липавскому удается жутковатая чувственность, свойственная почти всем обэриутам.
«В человеческом теле эротично то, что страшно. Страшна же некоторая самостоятельность жизни тканей и частей тела; женские ноги, скажем, не только средство для передвижения, но и самоцель, бесстыдно живут для самих себя. В ногах девочки этого нет. И именно потому в них нет и завлекательности.
Есть нечто притягивающее и вместе отвратительное в припухлости и гладкости тела, в его податливости и упругости.
Чем неспециализированнее часть тела, чем менее походит она на рабочий механизм, тем сильнее чувствуется его собственная жизнь.
Поэтому женское тело страшнее мужского; ноги страшнее рук, особенно это видно на пальцах ног».
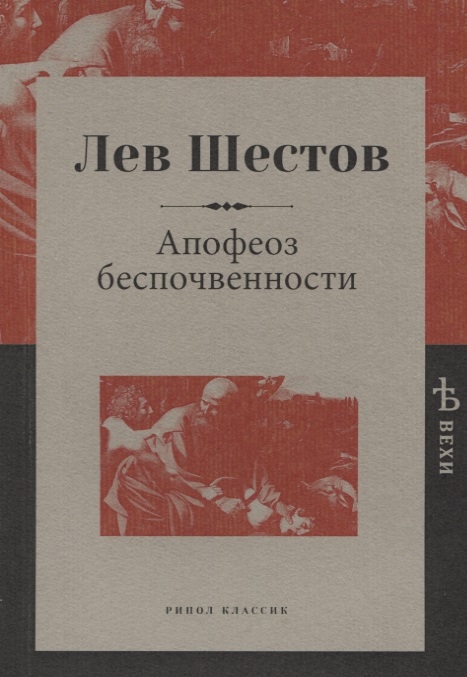 Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности»
Лев Шестов, «Апофеоз беспочвенности»
Патриоты любят записывать Льва Шестова в патриархи экзистенциализма. Мы этого делать не будем, но отметим его неоценимый вклад в упаднический дух русского человека. Задолго до Эмиля Чорана он пришел к выводу, что бытие не особо нуждается в человеке, а философский трактат не обязан быть нудной книгой для нескольких софистов.
«Апофеоз беспочвенности» — книга по-хорошему злая, пессимистичная и при этом бесконечно святая в своем гуманизме. Краткие афоризмы перемежаются в ней пространным рассуждениями о тщетности всего сущего, о лицемерии моралистов, о Гоголе, Пушкине и Толстом. Словом, обо всем, что мучает каждого уважающего себя россиянина.
Наверное, это одно из самых парадоксальных явлений в нашей литературе, одновременно наплевавшее на правила написания философского текста и открывшее дорогу веренице мыслителей от Розанова до Галковского. Хорошо это или плохо — решать не нам, но труд Шестова, безусловно, заслуживает того, чтобы его читали и перечитывали в каждом доме.
«Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мирке. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т.п. вещах. Уничтожать то, созидание чего стоило таких трудов! И затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир! Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья, и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой, — нет никому дела.
Крылья — это мистицизм, самоугрызение же — действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палачей: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами».
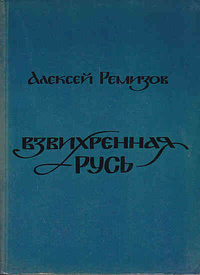
Алексей Ремизов, «Взвихренная Русь»
Ремизов, на наш взгляд, один из самых недооцененных писателей в истории русской литературы. О нем принято говорить как о чудаке, любившем прицепить обезьяний хвост, чтобы пойти на бал. И напрасно.
Написанная им «Взвихренная Русь» — произведение не только эксцентричное, но и посконное в самом лучшем смысле этого слова. Это текст бесконечно талантливого человека, обиженного на Октябрьскую революцию, которая вынудила его покинуть родину. Но в нем нет ни строчки, прямо осуждающей тех, кто перестроил Россию, — лишь скорбь по утраченной стране, которая у Ремизова предстает в ироничном и одновременно печальном образе умирающей бабушки.
Сейчас бы это назвали клюквой. Но в те времена, когда Ремизов писал свою лучшую книгу, это было самым трогательным, хоть и немного странным воплощением тоски по России, которую мы, как принято говорить, потеряли.
«— Спаси, Господи! — благодарила старуха, отказывалась: ей и так ничего, заснула она.
Но лавочница тычет под бок одеяло — тормошит старуху.
И поднялась бабушка, постелила лавочное одеялишко, еще раз благодарит лавочницу — и легла.
Легла бабушка на мягкое — а заснуть и не может: не спится, не может никак приладиться, заохала:
„Господи, помилуй мя!”
А и молитва не помогает, не идет сон, бока колет, ломит спину, ноги гудут.
А лавочница богобоязная, лавочница, „доброе дело” сделав, навела носом такую музыку, — одна поет громче паровозного свиста, звонче стука колес — на весь вагон.
Следил я за бабушкой —
„Бабушка наша костромская, Россия наша, и зачем тебя потревожили? Успокоилась ведь, и хорошо тебе было до солнца отдохнуть так, нет же, растолкали! И зачем эта глупая лавочница полезла со своим одеялом человека будить?”
Но, видно, услышал Бог молитву, внял жалобам — заснула бабушка, тонко засвистела серой птицей.
„Слава Богу! — подумал я, — успокоилась. Ну и пусть отдохнет, измаялась — измучили ее, истревожили. А чуть свет подымется лавочница, возьмется добро свое складывать, хватится одеялишка, пойдет, вытащит из-под старухи подстилку эту мягкую: разбудит старуху, подымет на ноги: ни свет ни заря, изволь вставать. Ничего не поделаешь. А пока — бабушка, костромская наша, мать наша, Россия!”»
 Сергей Максимов, «Нечистая, неведомая и крестная сила»
Сергей Максимов, «Нечистая, неведомая и крестная сила»
Сергей Васильевич Максимов написал немало великих книг. Его перу принадлежат труды «Край крещеного света», «Бродячая Русь Христа-ради» и многие другие вещи, за чудесными названиями которых скрывается огромная работа, проделанная во имя отечественной этнографии. Но мы после долгих раздумий остановились на его фундаментальном труде «Нечистая, неведомая и крестная сила».
Первая часть книги представляет собой дотошно составленный каталог бесов, кикимор, водяных и прочей нечисти, в изобилии обитающей на землях восточных славян. Из нее мы узнаем, как веселые и добрые южные русалки становятся все злее и мрачнее на севере; разбираемся, сколько имен у чертей (больше пятидесяти), и учимся различать подвиды домовых.
Бесовщина неотделима от русской духовности, но Максимов не ограничивается погружением во мрак. Завершается книга описанием обрядов, которые наши предки совершали в христианские (и не только) праздники, чтобы оградить себя от злых духов. Трудно представить более полезное чтение.
«Водяной находится в непримиримо враждебных отношениях с дедушкой домовым, с которым, при случайных встречах, неукоснительно вступает в драку. С добряками-домовыми водяные не схожи характером, оставаясь злобными духами, а потому всеми и повсюду причисляются к настоящим чертям. Людям приносят они один лишь вред и радостно встречают в своих владениях всех оплошавших, случайных и намеренных утопленников (самоубийц). На утопленницах они женятся, а еще охотнее на тех девицах, которые прокляты родителями.
<...> Во Владимирской губ. водяного знают седым стариком; в Новгородской (Черепов. у.) видали его в виде голой бабы, которая, сидя на коряге, расчесывала гребнем волосы, из которых бежала неудержимою струею вода. У вологжан (напр., Никольского у.) водяные духи, имея человеческий вид, обросли травой и мохом и росту бывают очень высокого. А в Грязовецком уезде — они черные, глаза у них красные, большие, в человеческую ладонь, нос величиною с рыбацкий сапог; в Кадниковском видали духа в виде толстого бревна, с небольшими крыльями у переднего конца, летящим над самою водою. У орловского водяного борода зеленого цвета, и только на исходе луны — белая, седая; волосы точно также длинные и зеленые. Из воды, в этих местах, он показывается только по пояс и очень редко выставляется и выходит весь. Ярославский водяной (в Пошехонье) любит гулять по берегу, наряжаться в красную рубаху; уломский водяной (Новгород. г.) несколько раз уличен был самовидцами в том, что прикидывался иногда свиньей».