Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
В книге «Снег в июле» (1983) советского писателя с примечательной фамилией Лондон удивляет многое, и прежде всего то, что производственный роман может читаться не как требующий постироничного отношения музейный экспонат, а как просто хорошая проза. Редкие всполохи нафталиновой идеологической «правильности» напоминают дежурные, написанные от руки и небрежно налепленные на витрину таблички: мол, у нас все хорошо, слава КПСС. Однако то, что за табличкой, т. е. основная часть текста, не имеет к линии партии никакого отношения. Если не сказать — идет ей наперекор.
Удивление номер два: роман абсолютно неизвестен. Его нет даже в доступном в электронном виде однотомном 830-страничном собрании сочинений Льва Израилевича «Строители» (М.: Современник, 1985). Попавшийся мне бумажный экземпляр был списан на берег из больничной библиотеки. Помимо обычных в таких случаях потертостей на некоторых страницах также присутствуют подозрительные бледно-бурые пятна.
Вспоминается, как букинист Шон Байтелл писал о книгах из своего магазина в «Дневнике книготорговца»: «Кто вообще знает, в чьих руках они побывали? Несомненно, у самых разных людей, от священников до убийц. Для многих это тайна, которая захватывает и будоражит воображение». Безусловно, «записи или пометки, сделанные предыдущими читателями <...> это интересные дополнения — возможность заглянуть в мысли другого человека, который читал эту книгу до тебя». Но что насчет буроватых пятен? Куда мы здесь заглядываем — вернее, даже так: с чем мы соприкасаемся? Пожалуй, есть вещи, о которых все-таки лучше не думать.
Перейдем непосредственно к тексту. Он цепляет сразу, с первой главы: читаешь, и ощущение такое, будто пишет главный герой фильма «Афоня», если бы он работал не в ЖЭКе, а на стройке:
«Это мои записки бывалого прораба. Прежде всего, наверное, следует представиться. Пожалуйста! Алексей Васильевич Кусачкин (или — как звали меня до прорабства — Алешка Кусачкин), двадцать семь, холост, образование среднее — техникум. Вроде все?.. Нет! Нужно еще объяснить, что означает слово „бывалый“ по отношению к прорабу.
Как вам сказать? Вообще выражение „бывалый прораб“ — все равно что „масляное масло“. Прораб может быть небывалым только первые три месяца. А как только в СУ, то есть в стройуправлении, напишут приказ на серой бумаге (почему-то в СУ бумага всегда только серая, вот в тресте — белая), приказ о взыскании... Вижу, уважаемый, вы сразу хотите спросить: за что? Признайтесь, вы, наверное, не строитель — такие тоже бывают... Если б я тут взялся „за что“, то места в записках уже не осталось бы».
Бравое просторечие, «батины» шутки — все это Лондону, выпускнику Киевского инженерно-строительного института, который, если верить сетевым библиографиям, сменил строительный молот на перо в более чем зрелом возрасте (год рождения — 1910, первая публикация — 1970), явно знакомо не понаслышке и вполне удается. Но наверное, было бы странным утопить в стилизации весь роман, поэтому периодически Лев Израилевич переключается.
Иным языком написаны главы от лица сильной женской героини, прорабки (ну или какой будет феминитив у слова «прораб»?) Нины Кругликовой. А когда речь заходит о самом из всей троицы старшем, замкнутом в себе прорабе (позднее — начальнике не самого высокого пошиба) Петре Самотаскине, повествование ведется от третьего лица. Сцену, в которой мы знакомимся с героем, хочется перечитывать медленно и неспеша — это настоящий соцреалистический хрусталь, в котором как будто отражается висящий на стене портрет Хемингуэя с его брутальной чувственностью.
«Петр Иванович вошел в вагон.
Ночь не уходила, казалось, она вечна. Вагон, словно в лихорадке, трясся, гремел неисправными дверями, стучал на стыках рельсов колесами. Петр Иванович стоял в проходе; навстречу ему мчалась ночь, темная, злая.
„Кто мчится, кто скачет под хладною мглой?
Ездок запоздалый...“ — пела она.
Когда поезд прибывал на станцию, ночь на десяток-другой минут оставляла Петра Ивановича. Холодно светили заспанные фонари, откуда-то издалека, может быть даже с другой планеты, слышался голос: „Поезд Воронеж — Москва прибыл на первой путь...“ „Пу-у-уть!“ — откликалась ночь, и снова тишина. <...>
Поезд трогался. Мелькали огни, сначала часто, потом реже... исчезали. И снова ночь под перестук колес начинала:
„Кто мчится, кто скачет под хладною мглой...“»
Кусачкин, Кругликова и в особенности Самотаскин помогают автору донести не новую, но, опять же, удивительную для «рядовой» советской книжки о рабочих идею: по-настоящему порядочный человек не может быть счастлив. Карьера, любовь — все это могло бы быть у каждого из героев, но они предпринимают все возможные усилия, чтобы их жизнь не складывалась, причем даже в тех случаях, когда это, казалось бы, не вредит их принципам. Почему? Исчерпывающего ответа мы не находим.
В который раз приходится цитировать Олега Альбертовича Ковалова, который как-то раз сказал в интервью:
«Есть вещи непознаваемые. <...> Толстой — я не умаляю гениальности, — но ему кажется, что он может объяснить все явления. Почему война наступила, почему Вронская думает одно, а Каренин думает другое. И мне эти объяснения не кажутся очень глубокими. А вот, скажем, Достоевский — вместо объяснений у него разрыв. „Бесы“ читали? Вот почему Ставрогин женился на Хромоножке? Ведь люди разных миров. <...> А Достоевский не объясняет! В этом мире нет мотивировки. Мы не понимаем, почему герои поступают так или иначе. Почему Настасья Филлипповна выходит замуж за Рогожина? Мы не понимаем совершенно, это не объяснить. То есть мы можем какие-то умозрительные вещи предположить, но они не исчерпают проблему».
В этом смысле Лондон — это, конечно, Достоевский и даже Шекспир: «Прогнило что-то в датском королевстве». Конечно, герои не винят ни в чем советскую власть, напротив, даже удивляются: как это так, мы живем под руководством коммунистической партии, и нам грустно? Но когда доходит до дела и три принципиальных прораба выступают против начальства, возникает ощущение, что речь идет далеко не только об отдельно взятой стройке. А может, и вовсе не о стройке.
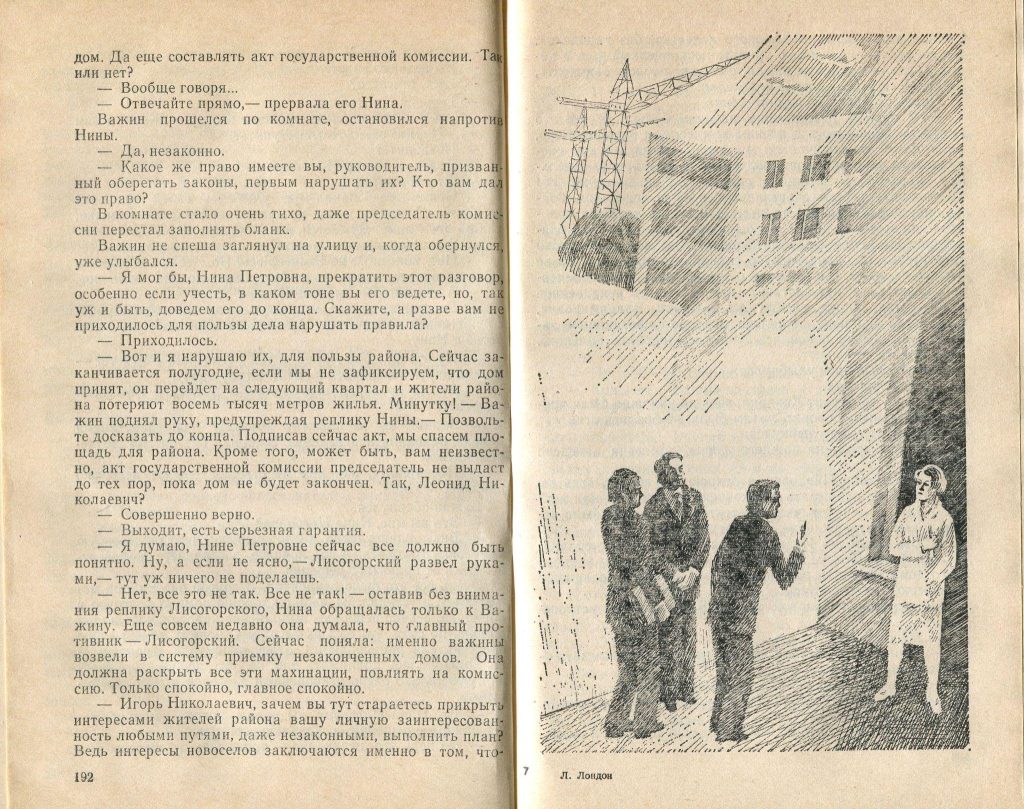 История в своем роде заурядная: руководство требует сдать дом в эксплуатацию раньше срока. Это значит — работать быстро, а не добросовестно. В результате жильцы получат квартиры со множеством недоделок. Зато начальники отчитаются о своевременном выполнении плана и будут поощрены разными бонусами от других, более высоких начальников. Да и строителям вроде как тоже должно быть лучше, когда начальство доброе. В общем, никто не в накладе — кроме народа.
История в своем роде заурядная: руководство требует сдать дом в эксплуатацию раньше срока. Это значит — работать быстро, а не добросовестно. В результате жильцы получат квартиры со множеством недоделок. Зато начальники отчитаются о своевременном выполнении плана и будут поощрены разными бонусами от других, более высоких начальников. Да и строителям вроде как тоже должно быть лучше, когда начальство доброе. В общем, никто не в накладе — кроме народа.
Главный антагонист, строительный чиновник с говорящей фамилии Важин, действует хитростью. Когда Самотаскин, Кругликова и Кусачкин бросают вызов заведенным под его началом порядкам, он не кричит, не угрожает, а манипулирует, убеждая, что идти против закона — именно то, что нужно людям и необходимо для общего дела:
«Правила, конечно, нужны. Но если не смотреть в суть вещей, а упорно и тупо выполнять правила, можно погубить дело. Что нужно: соблюдение правил, различных ограничений, которые сегодня действуют, а завтра, быть может, как это часто бывает, скажут, что они вредны, или нужно дело? Я давно уже, Борис Борисович, думаю над этим. Давно пора кончать демагогию! Есть только одна „лакмусовая бумажка“, при помощи которой должна определяться правомерность действий руководителей <...> — „все для дела, ничего лично для себя“. Во имя дела можно нарушать любые ограничения, правила».
Звучит как будто бы убедительно. Однако Нина Кругликова находит в себе мужество парировать — не может быть людям выгодно то, из-за чего они живут хуже:
«Игорь Николаевич, зачем вы тут стараетесь прикрыть интересами жителей района вашу личную заинтересованность любыми путями, даже незаконными, выполнить план? Ведь интересы новоселов заключаются именно в том, чтобы получить квартиры высокого качества, без недоделок. Вы же толкаете комиссию принять неоконченный дом, а потом, когда акт будет подписан, в спешке кое-как закончить, оставляя скрытые и явные недоделки».
Обращаясь к членам комиссии, Кругликова пользуется простыми формулами: нас много, мы вместе, дело наше правое — и, как ни странно, это работает. Да, художественный мир Лондона соцреалистичен, но в каком-то смысле он кусает за хвост сам себя, и кусает за дело. Перефразируя Данилу Багрова: ты вот думаешь, что сила в плане, а я тебе скажу, что сила в правде. А план без правды и не план вовсе.
«Неужели один человек, даже облеченный властью, может заставить вас совершить неправедное дело!» — в конце концов восклицает идеалистка Нина. Может, может — люди хорошо знали это в 1983 году, знают и сейчас. Но в наших силах, убеждает нас роман, этому помешать. «Если очень захотеть, можно в космос полететь».
Вообще, «Снег в июле» — очень терапевтическое чтение. Хорошие люди собрались вместе и дали отпор плохим. От этого делается приятно и уютно. Да и, к слову, это в 1980-е июльский снегопад был нонсенсом, а при нашей современной экологии — почему бы и нет?
Увы, закрывая книгу, вспоминаешь и душный июль 2023 года и то, что все не так просто, как нам бы того хотелось. Прорабы отстояли один дом, смели одного нерадивого карьериста. Но сколько еще таких строек, сколько Важиных? Да, Петр Иванович с компанией могут гордиться собой, но Лондон, завершая текст не самыми радужными мазками, кажется, намекает: покой и волю вы, так и быть, заслужили. А вот счастье по-прежнему в дефиците.
Вероятно, в будущем, поднимаясь на верхние этажи недостроенных домов, Самотаскин будет все так же крутить в голове совсем не советские мысли в духе Эдгара По:
«Он подошел к краю перекрытия и посмотрел вниз. Свободно, будто не связанные ни с чем, отрешенные от всего, колебались верхушки деревьев: влево — вправо, влево — вправо... Призывно, как когда-то в прорабские времена, потянула к себе земля. Влево — вправо, заколебалась она, маня к себе, суля вечное успокоение...»
И не сложится семейного счастья у старого прораба, не знающего слов любви. Как-то по-чеховски Лондон, когда пишет о нем, называет редкие в жизни этого героя мгновения взаимности: пролетела большая птица, коснулась лица сверкающим крылом.
Все так же Кусачкин будет читать только классическую дореволюционную литературу, потому что толковых современных сочинений не достать. А те, что есть, написаны скверно, полны пустого до комичности трудового пафоса и напоминают графоманскую рукопись одного из шефов, которую в свободное время перепечатывает секретарша Аглая Федоровна:
«Костя перевернул страницу: „Прораб схватил увесистую чернильницу, весом не менее одного килограмма, и запустил в голову начальника СУ-27. Хотя чернильница пролетела всего миллиметров тридцать от головы начальника СУ-27, Агашкин даже не шелохнулся. “Все равно график придется выполнить”, — твердо сказал он. Железная выдержка начальника строительного управления номер 27 Агашкина М. М. покорила прораба“ <...> На заглавном листе большими буквами стояло: „Павел Писарев. Твердость. Повесть“».
И будет рядовой советский обыватель, который на публике следует канонам атеистического воспитания, оставшись наедине с собой, робко бормотать: «Есть все же наверху кто-то, определенно есть». А автор, очевидно, поддерживая его в этом, пишет слово «Всевышний» с большой буквы.
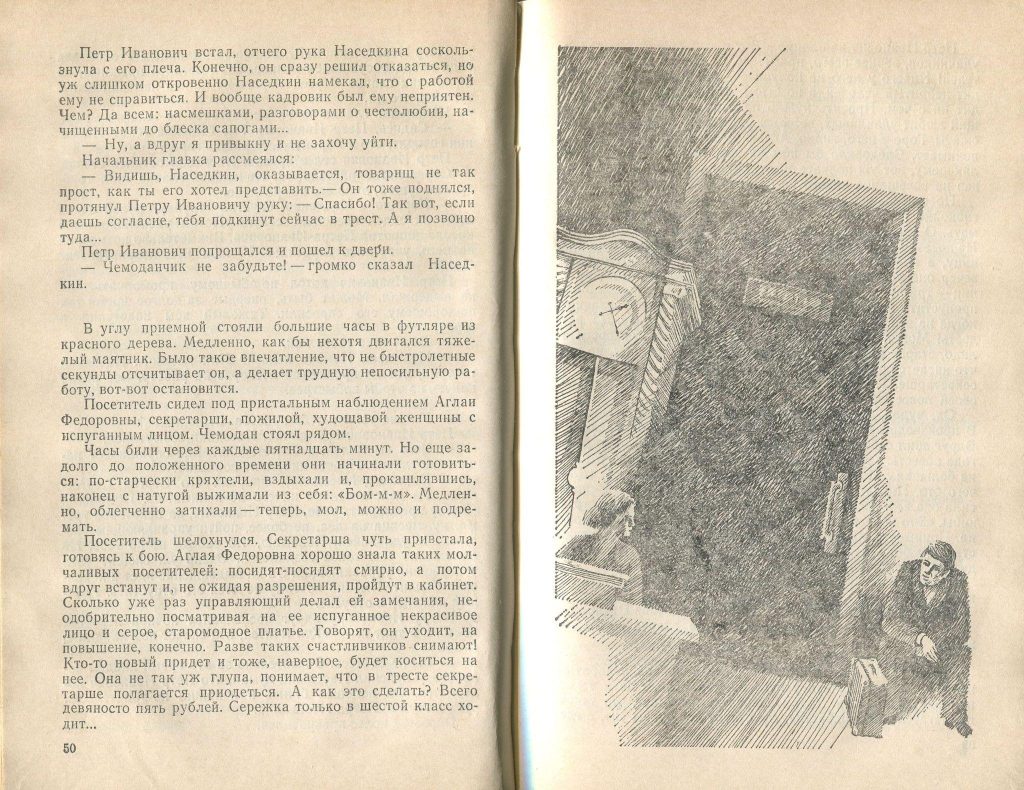 Во вступительной статье «О творчестве Льва Лондона» из упомянутого сборника «Строители» Михаил Алексеев пишет:
Во вступительной статье «О творчестве Льва Лондона» из упомянутого сборника «Строители» Михаил Алексеев пишет:
«С моей точки зрения, самое большое достоинство здесь — это абсолютно достоверная атмосфера большого строительства, где разворачивается действие».
Если судить по «Снегу в июле», складывается впечатление, что это не совсем так. Да, жизнь строителей 1970–1980-х годов раскрыта исчерпывающе. Но интереснее и важнее вырастающее на этой почве обобщение: все мы люди, все прорабы. А вокруг — наш сад одна большая проблемная стройка.
