«Школьное чтение — это насилие над читателем»
Интервью с филологом Михаилом Павловцом
Что вы читали в детстве?
Я из военной семьи. Мама — филолог по образованию, но она почти всегда работала там, где служил отец: лаборантом в химической лаборатории или библиотекарем в библиотеке Военной академии. Поэтому у меня было два наставника в чтении: мама, которая всегда много читала (папа пропадал на службе или в командировках), и книжный шкаф. У нас было дома несколько книжных шкафов, но один из них стоял в моей комнате, и я прочел его содержимое целиком несколько раз. Там была масса всего: серия «Школьная библиотека», которую мама целенаправленно покупала, детская полка, взрослые издания — художественные и научно-популярные. Какие-то книги я подворовывал из родительского книжного шкафа, потому что у них, например, была библиотека книг о войне и альбомы. Читал я очень разное и без особого разбора. Большую часть моего чтения составляли произведения соцреализма, причем самые кондовые, забытые. В этом отношении большую роль сыграл бабушкин чердак с книжками, которые лежали там подчас даже без обложек, — берешь книжку, начинаешь читать и даже не знаешь, кто ее написал.
То есть интерес к советской литературе у вас уже тогда возник?
Я уверен, что он оттуда, да. Там были книжки с совершенно сумасшедшими сюжетами: например, две молодежные бригады на автозаводе соревнуются по количеству просверленных дырок — потом в исследовательской литературе все это получит название «теория бесконфликтности», когда хорошее борется с отличным. Затем у бабушки я нашел огромную подшивку журнала «Юность», причем самого прекрасного периода оттепели, второй половины 1950-х — середины 1960-х годов, с главредом Валентином Катаевым, а потом Борисом Полевым: естественно, все номера были мной прочитаны. Так я узнал и Гладилина, и Кузнецова, и Аксенова, и Вознесенского с Евтушенко, и много кого еще.
Что полюбилось больше всего?
У меня был довольно прихотливый вкус. Помню, я три или четыре раза прочел книгу советского писателя Владимира Тушкана «Джура». Это ориенталистская вещь, рассказывающая о том, как революция пришла в Среднюю Азию, — про путешествие мальчишки, который то попадал в какие-то восточные наркотические притоны, то воевал с басмачами, то был у них в плену. Великолепный роман, который можно было много раз перечитывать и открывать для себя каждый раз совершенно новый мир. Помню серию «Библиотека фантастики», в которой мне особенно нравились космические приключенческие романы. После их чтения я сам стал изобретать космические корабли. В общем, это нормальная жизнь нормального мальчишки, у которого меняются увлечения в зависимости от того, что он прочитал. Если ты берешь у мамы книгу по энтомологии, то ты все знаешь о каракуртах, но ровно до того момента, пока ты не прочтешь про машину времени и не начнешь фантазировать на эту тему. Я даже одно время изобретал модель легкового автомобиля, которому придумал красивое название «Владилен» — Владимир Ильич Ленин. Увлекся я этим именно потому, что прочитал какую-то статью о машине «Опель». Потом увлекла химическая лаборатория, в которой работала мама, плюс прочитанное у Жюля Верна про взрывную мощь нитроглицерина (продававшегося в обычных аптеках!): мы с другом увлеклись вопросами взрывчатки и стали ее изобретать — к счастью, все закончилось мирно. В общем, я много что перепробовал, пока в конце концов не определился со своим филологическим профилем классу к девятому.
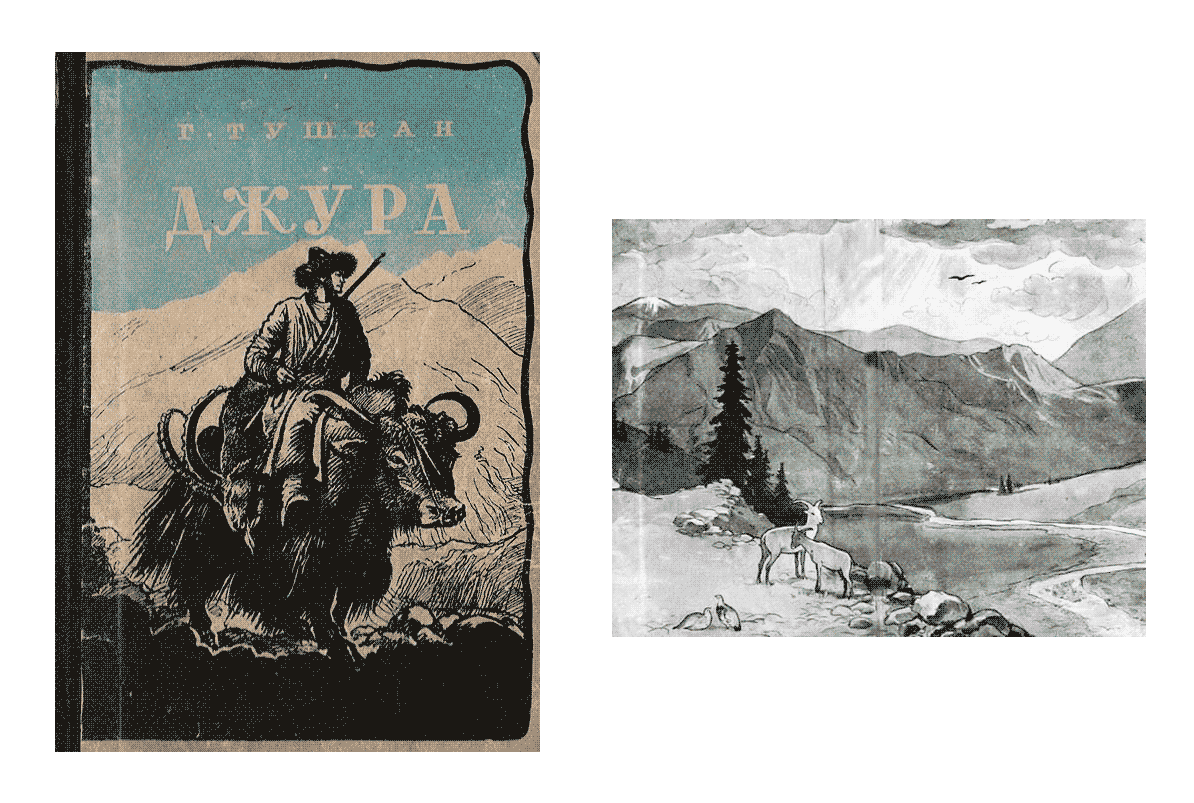
Потом вы поступили на филфак?
Это был филфак педуниверситета. Когда я поступал, это был 1989 год, уже появлялись признаки того, что жизнь будет непростая, но мы все шли на филфак не за куском хлеба. Это был период возвращенной литературы, тогда журнал «Новый мир» выходил тиражом в два миллиона экземпляров, и к ларькам за этим журналом, где печатался тогда Солженицын, стояла огромная очередь уже с утра. Тогда появилось огромное количество новой прекрасной литературы, которая была мне доступна благодаря маме. Я мог с утра до вечера все это читать, и тогда мнилось, что само чтение лучших книг может стать профессией, как у героя Саши Соколова в «Школе для дураков», который думал, что профессией может быть ловля зимних бабочек. Только потом, когда я уже встретился с настоящей наукой, настоящими учеными, я понял: читать мало, прочитать книжку вовсе не значит ее понять, а понять вовсе не значит, что ты филолог. Более того, филолог читает подчас вовсе не то, что ему нравится: как для энтомолога нет большой разницы между бабочкой и самым омерзительным пауком, так и филолог должен читать иногда то, что ему совершенно не нравится.
Нас тогда было девять групп на филфаке Ленинского педуниверситета, и конкурс был шесть человек на место. Я совершенно не знал, что буду работать в школе, в какой-то момент думал, что надо стараться идти дальше, в науку и вузовское преподавание. Тем более что из школы, куда я пошел работать за год до окончания, меня через полгода вышибли: не пришелся ко двору… В 1994 году аспирант получал смешные гроши, плюс у меня вскоре появилась семья, да и вообще надо было как-то выживать, поэтому пришлось пойти в другую школу (это была одна из лучших частных школ того времени — колледж Irmos), преподавать в университете, репетиторствовать. Это все отвлекало от науки, но и дало огромный опыт вчитывания в текст, бесконечного говорения о нем, переработки прочитанного.
Расскажите, о чем были ваши институтские работы.
Моим любимым автором был Саша Черный. Курсовую и диплом я писал о нем, меня очень интересовал жанр «лирической сатиры», который он разрабатывал. Моя гипотеза состояла в том, что сама эта форма родилась у него прежде всего под влиянием Генриха Гейне, отсюда, кстати, и мой интерес к немецкой поэзии. Одна работа у меня была посвящена Саше Черному и Гейне, а вторая уже самому жанру «лирической сатиры», где особый лирический субъект был и автобиографическим, и дистанцированным от автора. Так меня вообще заинтересовала проблема лирического субъекта, героя, маски, сложных взаимоотношений между этими инстанциями в поэзии. При этом Саша Черный довольно простой поэт не первого ряда, но занятия им научили меня уважительно относиться к поэтам, которых далеко не все знают, но которые оказывались значимыми для крупных поэтов вроде Маяковского, который Черного очень ценил. Юмор Серебряного века, сатира эпохи модерна — это вообще целый космос.
Кандидатскую вы писали о Пастернаке и Рильке. Как у вас случился такой переход?
На меня очень сильное впечатление произвела тройственная переписка Пастернака, Рильке и Цветаевой, да и вообще у меня была увлеченность ранним Пастернаком — меня просто вышибал этот поэт. Я не понимал треть или даже две трети из того, что он пишет, но я был совершенно заворожен звучанием его поэзии. Это моя особенность — я не могу с первого раза воспринимать стихи: я сначала читаю, вслушиваясь в стихотворения — звучат они или нет, потом еще перечитываю — уже ловя смысл; поэтому мне тяжело на поэтических концертах воспринимать стихи с точки зрения того, о чем они. Так вот, Пастернак — это абсолютно звучащий поэт. Завороженный его саундом, я захотел разобраться в том, как он пишет. Параллельно я узнал о существовании Рильке, стал его читать, переводить для себя. Меня интересовал ранний Пастернак, его восприятие ритма; интересовало, каков механизм встречи начинающего поэта с сильным поэтом. Насколько прав Блум, утверждая, что поэтом движет страх влияния… О схожем говорил и сам Пастернак: на него в молодости оказывал сильное влияние Маяковский, и это ему страшно мешало, поэтому он, по его словам, делал все, чтобы избавиться от этого влияния, и это его манеру «сузило и очистило». Так я докопался до первых попыток перевода Пастернаком Рильке, а дальше я сделал находку, которая смешна для человека, далекого от всего этого: я обнаружил неизвестную раннюю попытку перевода Пастернаком стихотворения Рильке (до этого считалось, что таких попыток было только пять, я нашел шестую). Тогда я понял, насколько круто находить что-то такое: вроде бы глупость, но ты внес свой маленький вклад в культуру. Сейчас я уже немного стесняюсь моей диссертации, но там было несколько небесполезных наблюдений о следе Рильке в поэзии Пастернака и самом характере их взаимоотношений.

Как вы увлеклись авангардом и кто из его персонажей стал вашим героем?
Здесь тоже есть человек, с которым я сначала общался заочно. Зовут его Сергей Бирюков — поэт, перформер, академик и основатель Академии зауми. Началось с того, что он, можно сказать, спас меня от голодной смерти. Я был молодым учителем, работал в частной школе, где мне платили 100 долларов, на которые жить семье было довольно сложно. Тогда Фонд Сороса прислал нам учебники, которые мы должны были апробировать, за что каждому платили по 150 долларов дополнительно, пусть и нерегулярно. Я участвовал в этом, и одна из книг, которая мне досталась, была работа по истории русской поэзии стиховеда Вадима Баевского, а вторая — антология авангардной поэзии «Зевгма», которую составил Бирюков. И это было крышесносительное чтение. Я вдруг узнал, какой разной бывает поэзия, тут мое увлечение звуком в поэзии пригодилось. Я пробовал работать на уроках по этой книге, но не очень получалось, и я ее использовал больше для себя. С тех пор я страшно увлекся авангардом. Другое дело, что в аспирантуре я тогда уже писал работу по Пастернаку, который тоже связан с «Центрифугой», с другими футуристами, и меня ужасно интересовали его собственные футуристические эксперименты. Этот интерес был довольно постоянный.
Потом, много позже, была еще одна довольно важная встреча с человеком, которому я тоже бесконечно благодарен, — с Ильей Кукулиным. Это было в 2008 году, когда он вынужден был уйти из «Нового литературного обозрения», а я тогда работал в МГПИ. Тогда в Москве было пять педвузов, которые создавались один за другим, так как выпускники не шли на мизерные учительские зарплаты — и школы пытались просто завалить количеством выпущенных: кто-то да доберется до школы! Сначала был ленинский МПГУ, областной и заочный педы, потом так называемый «лужковский» пед — МГПУ, а затем открыли пятый педвуз, переделав в институт бывший педколледж № 3. В 2001 году в этот педколледж, ставший МГПИ, перебралась довольно бодрая компания из МПГУ, где тогда стало очень сложно работать: я, например, ушел оттуда со скандалом, после борьбы за справедливость и сборов подписей в мою защиту, ничего, увы, не давшими, — наступали пресловутые «нулевые». В итоге получился такой маленький институт-лаборатория, где было мало студентов и можно было экспериментировать. Там же оказались Евгения Вежлян (Воробьева) и Юрий Борисович Орлицкий, который официально числился в РГГУ, но послушать его курс по стиховедению можно было только в МПГУ. Наш ректор дружил тогда с поэтом Евгением Сабуровым, который ему позвонил и сказал, что есть такой Илья Кукулин, он остался без работы, и ректор его взял, что для меня, не пропускавшего ни одной работы Кукулина, было счастьем. Эта работа с Вежлян, Орлицким, Кукулиным и другими коллегами породила идею семинаров, посвященных неподцензурной литературе. Сначала это были просто научные семинары, куда мы приглашали самых замечательных людей — от Ильи Кукуя до Массимо Маурицио. Потом из этого семинара родилась секция общеинститутской педагогической конференции, на которой обсуждали не вопросы преподавания русского языка и литературы, а поэзию Еремина и лианозовцев. Потом уже эта секция стала самостоятельной конференцией, после чего наш маленький вуз слили с городским университетом, кафедру нашу там благополучно сожрали, все разбежались по разным вузам, но теперь эта конференция возрождена и уже дважды состоялась во ВШЭ.
А вы сами какой темой занимались в рамках неподцензурной литературы?
Меня заинтересовал вопрос раннего и послевоенного авангарда, когда я почувствовал, что существует значительная дистанция между историческим авангардом с его утопичностью и другим, «академическим». Столько в этом авангарде таилось никому не известного, неизданного: исторический авангард многие бросились изучать как часть Серебряного века, а вот послевоенный либо был совершенно неизвестен и непонятен, либо воспринимался как вторичный по отношению к классике начала века… Плюс мое раннее увлечение Всеволодом Некрасовым, которого я знал сначала как детского поэта. Вообще я познакомился с лианозовцами в первом классе, потому что первая моя учительница учила нас читать по букварю, составленному при участии Генриха Сапгира, там были и его стихотворения, и стихи Игоря Холина про умные машины, и стихи Некрасова про «сентябрь на -брь». И вот через много лет опять Некрасов. Кроме того, еще студентом я писал учебную рецензию на подборку Сапгира в журнале «Знамя», тогда я абсолютно заболел его стихами, состоящими из обрывков слов.
С тех пор я занимаюсь неподцензурной литературой, где поэзия — один из главных моих интересов. Сейчас я заканчиваю книжку на эту тему, а также для меня был очень значимым проект, который мне предложили издательство НЛО и Марк Липовецкий — собрать том, посвященный лианозовцам. Состав тома уже определился, в проекте согласились участвовать Илья Кукулин, Илья Кукуй, Александр Жолковский, Энсли Морс, Массимо Маурицио, Марк Саботини, Владислав Кулаков, Михаил Субботин и другие очень значительные исследователи. Он должен быть сдан уже осенью. Это будет такая благодарность лианозовской школе и возможность как-то подвести итог того, чем я занимаюсь уже не первый год.

Каково, на ваш взгляд, значение лианозовской школы для нашей литературы?
Самое главное, что это был дружеский круг, то есть просто поэты, которые собирались вокруг Евгения Кропивницкого, жившего недалеко от Лианозово, на станции Долгопрудная. Его дом был открыт для художников и поэтов — дочь Кропивницкого, Валентина, была замужем за художником Оскаром Рабиным, который жил неподалеку. Соответственно, это была тусовка и художественная тоже. В этом доме появился молодой Генрих Сапгир, воспринимавший Кропивницкого как своего учителя, потом Игорь Холин, который тоже его любил, Некрасов. В томе, о котором я упомянул, мы планируем напечатать некоторые письма из переписки Кропивницкого с Холиным, Сапгиром и Некрасовым. Тем не менее само определение «школа» придумали в КГБ, как говорят. Есть даже замечательная записка Кропивницкого, где он объясняет, что на самом деле нет никакой школы, есть только семейный дружеский круг: «Лианозовская группа состоит из моей дочки Вали, моей внучки Кати, внука Саши и его отца Оскара Рабина, которые живут в Лианозово». Но это название неглупое, потому что о школе имеет смысл говорить там, где есть фигура того, кто является авторитетом, наставником, а таковым как раз для молодых поэтов являлся Кропивницкий. Он был в каком-то роде архаист, сочетавший традиционные взгляды с поэтикой литературного примитива. Многое из того, что мы потом видим у Холина и Сапгира, можно увидеть в стихах конца 1930-х годов у Кропивницкого. Главное, что это была абсолютно другая поэзия. Это поэзия, которая давала ответ на вопрос Теодора Адорно: как писать стихи после Аушвица? Поэзия руин, бараков, посттравматическая, послевоенная, когда под вопросом было все — откровенность, возможность искренности или любого пафоса, даже обличительного. Советские критики благодаря статье Померанцева «Об искренности в литературе» активно оперировали этим понятием в эпоху оттепели. Для людей, прошедших войну, голод, репрессии и лагеря, конечно, вопрос искренности был очень непростой. Насколько возможна поэзия без лирики — когда в ней словно бы нет субъекта, так что язык словно бы без участия автора проговаривает какие-то важные вещи? В чем специфика русского конкретизма — в отличие от немецкого, тоже выросшего из послевоенных «руин»? Это была поэзия, тесно связанная с живописью лианозовцев, то есть когда видишь барачную живопись того же Оскара Рабина, то понимаешь, что такое барачная поэзия. Самое главное, что лианозовская школа дала очень сильный импульс для современной поэзии. У многих поэтов истоки не в советской поэзии, а в поэзии Некрасова, например. Известно, к примеру, как значимо имя Вс. Некрасова для таких авторов, как Иван Ахметьев или Герман Лукомников. Эта поэзия делалась полвека назад, но до сих пор звучит очень актуально с точки зрения слова, способов презентации субъекта и преломления реальности. Рассказать об этом важно, потому что тем самым мы восстанавливаем для многих незаметные ниточки преемственности, культурной связи Серебряного века через неподцензурную литературу с сегодняшним днем. Для меня особенно важны две связи: идущие от неподцензурной поэзии назад, к русскому авангарду, и вперед — к современной поэзии.
Вы сейчас продолжаете заниматься советской литературой?
В меньшей степени. Это больше научный промысел, к нему я пришел через свою связь со школой, с проблемами литературного образования. Главная тема моего интереса — литературное образование ХХ — начала ХХI века и формирование советского школьного канона. Как сотрудник педвузов и как человек, долгое время работавший в школе, я соавтор пяти или шести учебников для школы и для вуза. А когда ты соавтор учебника, ты не всегда выбираешь, о чем писать, тебе просто предлагают. Например, Марк Липовецкий, делая в «Академии» свой учебник по 1930–1950-м годам, просто спросил, интересно ли мне написать главу о Леонове. До этого я прочитал несколько произведений Леонова: совершенно чудовищный, с моей точки зрения, «Русский лес», его отличные ранние вещи 1920-х годов, интересный роман «Вор», даже роман «Пирамида» — я дважды пытался прочесть, но получилось добраться только до середины первого тома. Этот роман находится за пределами литературы, потому что писатель весь свой жизненный и метафизический опыт попытался вместить в формат одной книжки, которую писал сорок пять лет. На мой взгляд, этот роман нечитабелен, хотя я знаю нескольких человек, прочитавших его. Получилось, что я согласился написать главу о Леонове, и в результате прочел все его собрание сочинений из десяти томов (кроме «Пирамиды»). Вообще, когда ты занимаешься каноном, то нужно понять, почему именно Фадеев, почему «Молодая гвардия», почему Шолохов? Все равно приходится читать, а, кроме того, советская литература 1920-х годов, которая во многом выросла из дореволюционного авангарда, — это тоже интересно. Она не советская, но, с другой стороны, в чем-то более советская, чем литература соцреализма.
Вам удалось разобраться в том, как формировался школьный канон?
Как он формировался в XIX веке прекрасно описали Алексей Вдовин и Роман Лейбов, другие исследователи. А в ХХ веке, после революции, мы видим куда более активное вмешательство государства в процесс канонизации. Причем государство обращалось к экспертному мнению специалистов, но в то же время ставило перед собой внелитературные и внехудожественные задачи. Литература в этот период воспринималась как инструмент идеологического воспитания: необходимо было сконструировать линейный и непротиворечивый нарратив формирования советской литературы, которая мыслилась как вершина достижений отечественной и мировой культуры как таковой. Для того чтобы выстроить этот нарратив, необходимо было не только прочертить линию преемственности, но и «зачистить» литературу от элементов, уводящих ее в сторону, то есть прежде всего от того, что связано с модернизмом и авангардом. Мне было ужасно интересно проследить, каким образом из советских программ убирались дореволюционный Маяковский, Хлебников, футуристы, символисты, даже Блок — сейчас мало кто помнит, что его не было в школе до конца 1960-х годов. Тем самым действительно выстраивается простая и доступная линия преемственности: сначала была русская классика, литература критического реализма, а потом пришла советская литература соцреализма. Сама эволюция заключалась в том, что сначала литература критиковала реальность, «свинцовые мерзости жизни», а потом пришла литература социалистического реализма, которая, продолжая критиковать прошлое, тем не менее с оптимизмом смотрела на настоящее, предугадывая в нем ростки прекрасного будущего. Тот отбор произведений, который нам кажется естественным — например, «Муму», «Отцы и дети», «Война и мир», — связан не с высокими художественными достоинствами этих произведений. Все намного сложнее, потому что они встраивались в нарратив о том, как развивалась литература с точки зрения трех этапов освободительного движения, обличения мерзости дореволюционной жизни и формирования национального патриотизма. Та же самая повесть «Муму» вошла в программу не потому, что ее любят дети, или потому, что это произведение воспитывает у нас любовь к животным или сочувствие к страдающему человеку, например, а потому, что там крепостное право толкает человека на бесчеловечность. Причем бедный пятиклассник, еще ничего не знающий про крепостное право, вообще не может понять, что происходит: почему Герасим делает то, что велит барыня, почему она вообще докопалась до какой-то собачки? Объяснить это было невозможно, поэтому ничего, кроме отторжения или болевого шока, этот опыт обычно юному читателю не дает. Но тогда не особенно учитывались интересы детей, главное было провести эту линию обличения проклятого прошлого. Вообще, школьное чтение — это отчасти насилие над читателем: ты должен прочитать не потому, что тебе это интересно, важно, а потому, что тебя это воспитывает. Поскольку я и сам пережил этот опыт в школе, мне было страшно интересно, что же испытывают современные школьники, которые куда более свободны в чтении, чем мы были тогда. Почему современный школьник должен читать все то, что для него и за него отобрали советские идеологи?
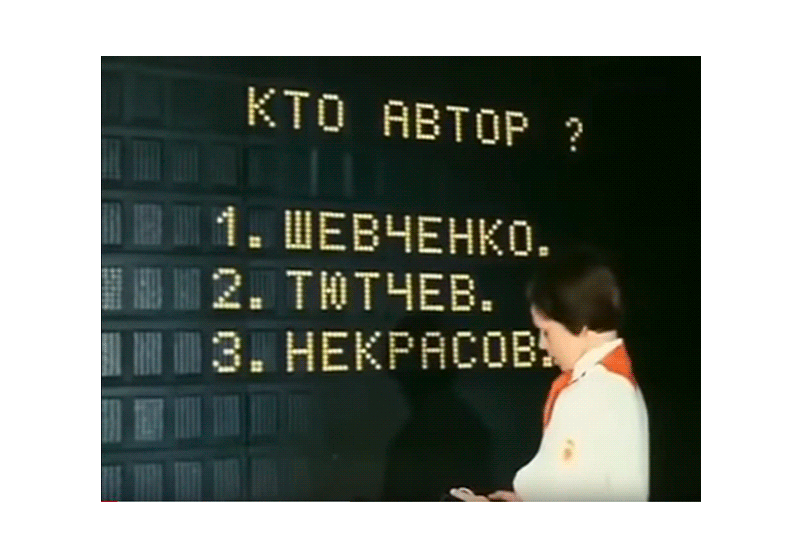
Меняется ли школьная программа по литературе сегодня?
Была попытка обновления программы, о чем я писал, в частности, в журнале «Неприкосновенный запас». Когда в начале 1990-х годов хлынул поток «возвращенной литературы», составители программы вдруг поняли, что надо бы дополнить ее Набоковым, Платоновым, Замятиным, Булгаковым, Ахматовой, Мандельштамом, Хлебниковым. И тогда вдруг оказалось, что если добавить эти произведения, то программа просто лопнет: такое количество произведений проглотить просто нельзя. Поэтому составители стали убирать ортодоксальные советские книжки, но тут выяснилось, что советская программа была хоть немного оптимизирована с точки зрения своих объемов и учитывала, что заставить читать, конечно, можно, но не все и не всегда. С возвращением Булгакова и Платонова оказалось, что программа раздулась до нереалистичности, и тогда придумали очень хороший подход — список «рекомендованных произведений». Почему надо обязательно изучать «Преступление и наказание»? Почему бы не предложить на выбор, например, «Преступление и наказание», «Идиот» и «Подросток»? Я знаю нескольких учителей, которые воспользовались этой возможностью и стали преподавать в школе «Идиота», потому что роман гениальный, потому что класс был сильный и по другим причинам, хотя бы просто из протеста против навязывания обязательного. Дальше появился широкий список, программы более широкие, но тут наше министерство образования забило тревогу, потому что оно не знало, что именно можно проверять, кроме «знания текста», но в таком случае нужен перечень этих самых текстов. Тогда, еще в конце 1990-х годов, появился список под названием «обязательный минимум», потом из этого списка родился «кодификатор содержания ЕГЭ». В итоге именно ЕГЭ установил, что все должны читать «Преступление и наказание», «Ревизора» и «Муму» обязательно, потому что это будет проверяться на экзамене. Дальше мы столкнулись с тем, что этот кодификатор и стал определять содержание образования. Попытки как-то осмыслить этот раздутый список чтения не привели ни к чему, кроме внутрипрофессиональных ссор. Например, в десятом классе только по литературе ребенок должен прочитать как минимум «Обломова», «Отцы и дети», «Грозу», «Преступление и наказание», «Войну и мир», один роман Салтыкова-Щедрина, одно произведение Лескова, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Вишневый сад» и набор рассказов Чехова. Это много, и для большинства прочитать сегодня уже малореалистично — но попробуйте сократить хотя бы до пяти пунктов! Стоит предложить убрать роман «Война и мир», с чтением которого целиком всегда были проблемы, — тут же прилетают обвинения в разрушении русской духовности. Некоторые учителя приводят такие аргументы: «Война и мир» — это бездонный кладезь аргументов для сочинений школьников и источник цитат! Чтобы решить эту проблему, надо пересмотреть сами цели литературного образования. Если принять постулат, что результат литературного образования — это не освоение обязательного списка, а формирование умения читать книжку самостоятельно, умения ее оценивать, обсуждать, то эти умения должны формироваться при самостоятельном чтении, чего сейчас не получается сделать из-за огромного объема обязательного и подконтрольного чтения. По мне, лучше исходить из того, что даже если ученик и не прочтет «Войну и мир», но выйдет из школы читателем, человеком, имеющим склонность к чтению, — он сам прочтет все то, что сейчас в школе предлагают читать обязательно. Есть еще более страшная для некоторых мысль: мы, люди, занимающиеся литературным образованием, судим о чтении по себе, а есть люди, для которых чтение не входит в первую десятку жизненных приоритетов, но это не значит, что они не будут вообще читать! Если человек, работающий асфальтоукладчиком, будет приходить с работы и читать Сергея Лукьяненко, например, вместо того чтобы смотреть телевизор — это же хорошо, этот человек имеет право на свой интерес, на свои эстетические предпочтения.
Могут ли в нашей школе появиться курсы наподобие Great Books?
Именно этот подход я использую у себя в лицее, когда вместе с классом мы медленно читаем четыре-пять больших книг за год. Читаем, обсуждая эпизоды, потом откладываем большую книгу, читаем маленькие рассказы, поэзию, сопоставляем и возвращаемся к большой книге опять. Но если читать так, то не освоишь те десять произведений, которые есть в обязательном списке! Поэтому приходится искать компромиссы, благо у меня гуманитарный класс, который не надо заставлять читать. Я был бы рад, если бы ребенок из обычной школы, который собирается стать мерчендайзером или инженером по электронным сетям, будет иметь возможность в школе читать гораздо меньше, но более качественно, и не только Толстого, но и, скажем, фэнтези, — и обязательно обсуждать это с другими, сопоставляя прочитанное с тем же Толстым. Так скорее можно сформировать позитивное отношение к чтению, но у нас разные цели с теми людьми, которые определяют сейчас литературную политику. Я уверен, что рано или поздно мы придем к тому, к чему весь цивилизованный мир уже пришел: к чтению не из-под палки, к зарубежной литературе в школе, к современной литературе, созданной для конкретного возраста и говорящей на понятном ему языке и на волнующие его темы. А пока у ребенка формируются два вида чтения — для Марьи Ивановны и для себя: скучное, но нужное и «полезное» чтение, и чтение интересное, актуальное и потому полезное уже без всяких кавычек. Мне очень не хотелось бы, чтобы чтение для большинства заканчивалось с получением выпускником школьного аттестата.