Преодоление зависимостей на лоне природы
Что читали авторы «Горького» в 2024 году: часть первая
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Fredric Jameson «The Years of Theory» (2024)
В сентябре этого года не стало Фредрика Джеймисона. Как однажды заметил Терри Иглтон, Джеймисон, обладавший широкими познаниями сразу в нескольких литературных традициях и не боявшийся смелых теоретических ходов, больше походил на человека поколения Виктора Шкловского или Эриха Ауэрбаха, чем на нашего современника. В последние десять лет он был невероятно плодовит и публиковал по книге каждые два-три года. В 2024-м у него вышли сразу две книги: сборник эссе о романе Inventions of a Present и лекции о послевоенной французской теории The Years of Theory. Первую книжку я только пролистал, а вот вторую прочитал очень внимательно. Джеймисон, славившийся витиеватой манерой письма, в этих лекциях доступным языком объясняет студентам, что такое стадия зеркала по Лакану и как работает идеологическая интерпелляция у Альтюссера. Одновременно, как и подобает марксисту, он описывает исторические условия, сделавшие возможным расцвет французской теории — относительную политическую и культурную автономию Франции, зажатой между НАТО и Восточным блоком, — а также стремление французских интеллектуалов выработать альтернативу догматическому марксизму ФКП.
К сожалению, из всей обширной библиографии Джеймисона на русский переведены только книга о постмодернизме и еще несколько статей разных лет. Книги о марксистских подходах к художественной форме, политическом бессознательном и антиномиях реализма все еще ждут своих переводчиков и издателей. Надеюсь, что дождутся.
Emily Van Buskirk «Lydia Ginzburg’s Prose: Reality in Search of Literature» (2016)
Перечитав в этом году книгу Эмили Ван Баскирк о Лидии Гинзбург (доступную, кстати, и в русском переводе), я еще раз убедился, что это — образцовое литературоведческое исследование. Ван Баскирк долгие годы работала с архивом Гинзбург и, кажется, прочитала все, когда-либо написанное Лидией Яковлевной, — от юношеского дневника до подготовительных материалов к ненаписанному роману «Дом и мир» (тому самому, о котором Григорий Гуковский говорил, что это будет роман в духе Пруста). Часто бывает так, что исследователь ломается под тяжестью материала и вместо анализа предлагает пересказ своих архивных находок. Ван Баскирк удается избежать этого. Ее книга — это не компиляция сырого материала, а грамотно выстроенное исследование, показывающее точки пересечения между литературоведческими работами Гинзбург и ее прозой. В числе прочего Ван Баскирк развенчивает миф о «дневниковом» характере «Записок блокадного человека». Анализируя черновые варианты текста, она показывает, как Гинзбург в процессе письма перерабатывала (или, как сказала бы сама Лидия Яковлевна, «претворяла») свой личный опыт, чтобы создать дистанцию между собой и рассказчиком/героями «Записок блокадного человека».
В прошлом году мне довелось взять интервью у Ван Баскирк, которая сейчас пишет книгу о Варламе Шаламове. Кажется, получился очень интересный разговор — почитайте, если еще не читали.
Лидия Гинзбург «Литература в поисках реальности» (1987)
Формалистская выучка сочеталась у Гинзбург с гегельянским (как указывает Ирина Паперно) историзмом. Отсюда, вероятно, ее интерес к реализму XIX века, понятому как «система, чьей двигательной пружиной является человек, исторически, социально, биологически детерминированный». Иными словами, определяющее свойство реализма, по Гинзбург, — это не «достоверное изображение» некоей действительности, а установка на сопряжение индивидуальной биографии и больших исторических процессов. Хотя Гинзбург называет реализм явлением XIX века, нечто подобное она пыталась осуществить и в собственной литературной практике — правда, отдавая себе отчет в том, что литературные модели середины XIX века не годятся для осмысления катастрофического опыта сталинского террора и блокады.
Сборник «Литература в поисках реальности» интересен тем, что в него вошли как теоретические статьи о реализме и историзме, так и мемуарные и эссеистические произведения Гинзбург, в том числе «Записки блокадного человека». В теоретической части Гинзбург размышляет о том, как на протяжении XIX-XX веков менялись приемы, при помощи которых литература «искала» реальность, а также пытается примирить историзм с имманентным подходом к анализу литературного текста. Сегодня, когда понятие реализма снова привлекает внимание исследователей (см. сборник «Русский реализм XIX века» и книгу Молли Брансон «Русские реализмы»), статьи Гинзбург кажутся как никогда актуальными.
Лев Толстой «История вчерашнего дня» (1851)
«История вчерашнего дня», в которой художественное письмо смешивается с дневниковым, может служить отличным примером того, что Лидия Гинзбург называла «промежуточной литературой». Задолго до «Улисса» Толстой попытался написать историю одного дня и потерпел неудачу — рассказ так и остался незаконченным. Впрочем, неудача — не самое подходящее слово в этом контексте. Как и роман Джойса, рассказ Толстого демонстрирует тот тупик, в который упирается литература, когда пытается описать жизненный опыт во всей его тотальности, как сказали бы гегельянцы. Но именно демонстрация этого тупика и делает рассказ Толстого особенно интересным, превращая его в метавысказывание о возможностях и ограничениях художественной литературы.
Если же отбросить все эти теоретические размышления, «История вчерашнего дня» — это блестящий образец ранней прозы Толстого с характерным самоанализом рассказчика и стремлением продемонстрировать социальную и психологическую обусловленность действий персонажей:
«Люди старого века жалуются, что „нынче разговора вовсе нет“. Не знаю, какие были люди в старом веке (мне кажется, что всегда были такие же), но разговору и быть никогда не может. Разговор как занятие — это самая глупая выдумка. Не от недостатка ума нет разговора, а от эгоизма. Всякой хочет говорить о себе или о том, что его занимает; ежели же один говорит, другой слушает, то это не разговор, а преподавание. Ежели же два человека и сойдутся, занятые одним и тем же, то довольно одного третьего лица, чтобы все дело испортить: он вмешается, нужно постараться дать участие и ему, вот и разговор к черту».

В этом году я читала непоследовательно, хаотично, но с большим удовольствием — возможно, впервые за несколько лет. Я писала много своих текстов, поэтому могла позволить себе читать только то, что мне нравится: успокаивает, напрягает, рассказывает.
Как подсказывает мне приложение для чтения, год я начала с «Памяти памяти» Марии Степановой — перечитывала и пере-перечитывала эту большую, трудную и иногда избыточную книгу. Теперь понимаю, что читала ее не для информации — а для того, чтобы привести в порядок собственные мысли и воспоминания, найти язык для того, чтобы говорить о прошлом, складывая его каждый раз как коллаж из трудно подходящих друг к другу обломков. Для меня «Памяти памяти» — больше про метод, чем про опыт. Конечно, прочла вышедший в этом году «Фокус» Степановой. Сперва я его не поняла, но затем книга настоялась в моей голове, и я смогла по-другому взглянуть на эту необязательную, но изящную прозу: посмотреть, как она расслаивается на уровни и точки зрения, как сложно она сплетается с моей собственной повседневностью.
Весной я впервые побывала в Риме, поэтому читала обязательные для всех русских путешественников «Образы Италии» Павла Муратова — размеренную и основательную прозу, которую можно использовать вместо путеводителя, настолько в ней зримо узнается каждое здание или мост. Я не большой поклонник путевых заметок, но взгляд Муратова на Рим удивительно совпал с моим.
Летом пережила два коротких книжных увлечения. Во-первых, университетский роман. На русской почве он, в силу особенностей университетской среды, не получил распространения, а в англоязычной литературе дал несколько замечательных примеров. Самый любимый — «Рассказ лектора» Джеймса Хайнса, саркастичное произведение о судьбе науки в новом мире. Хотя роман вышел в 2001 году, кажется, что за почти четверть века ничего не изменилось: все так же приходится балансировать между образованием и развлечением студентов, между наукой и бюрократией, между новыми прогрессивными методами и старыми «надежными». Особенно мне понравилось, как четко в этом романе о вымышленном университете схвачены типажи преподавателей: как университетский преподаватель подтверждаю, что все так, все так.
Каждый год я позволяю себе впасть в забытье, читая детективы. В этом году это были книги Кары Хантер, «У меня к вам несколько вопросов» Ребекки Маккай (сочетание университетского романа и детектива) и романы Мишеля Бюсси. Прочитала и «Бояться поздно» Шамиля Идиатуллина (но «Город Брежнев» мне по-прежнему нравится больше).
В конце лета с упоением прочитала «Последний день лета» Андрея Подшибякина — мистическую прозу о древнем духе, южных российских девяностых, насыщенную таким ярким колоритом, что я, застав эту эпоху лишь отчасти, вполне в нее поверила!
Октябрь прошел в чтении романов Эми Липтрот. «Выгон» — диковатая и неуютная автофикциональная проза о преодолении зависимостей на лоне природы. Мне, как убежденному горожанину, предпочитающему видеть природу только издали и из окна, любопытно читать о смене сезонов, об ощущении себя на фоне древних островов, выброшенных морем медуз и низкорослой травы. Но эта проза — не о природе, а о тех новых ощущениях времени, пространства и истории, которые возможны вне безусловного доминирования культуры. Об этом же красивая, как легкий росчерк пера, книга Рёко Секигути «Нагори: Тоска по уходящему сезону». Никогда не задумывалась всерьез о цикличности жизни, но книга Секигути как минимум обратила мое внимание на сезонность всего, что нас окружает, — и на то, как еще можно мыслить время и жить в нем.
Ноябрь прошел под знаком Ольги Фрейденберг. Я наконец прочитала книгу Ирины Паперно «„Осада“ человека: Записки Ольги Фрейденберг как мифопоэтическая теория сталинизма» — с упоением, как художественную прозу. Ирина Паперно обладает удивительной способностью говорить просто о сложных вещах, распутывать самые сложные концептуальные клубки и раскладывать все по полочкам. В этой книге меня поразила личность Фрейденберг — несгибаемой женщины, которая ни на шаг не отступала от своих убеждений; как нельзя соответствует героине метод Паперно, которая железной рукой проводит свою идею о дневниках Фрейденберг как «теории» тоталитарного общества. По следам чтения этой книги прочитала еще и воспоминания ученицы Фрейденберг Берты Галеркиной, а также — урывками — книгу «Идеология и филология» Петра Дружинина: о той обстановке, в которой делалась наука в 1940-е годы.
В целом год прошел под знаком трех книг. Первая — книга той же Ирины Паперно «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах: Опыт чтения». Эта работа помогла мне не только выйти из собственного методологического тупика, но и придала научной смелости: буквально — можно все, что нельзя, и ты сам выбираешь, как выстраивать свое научное размышление и свой поиск. Хороших научных книжек много, но вдохновляющих — единицы. Вторая такая книга — «Смотрим кино, понимаем жизнь: 19 социологических очерков» замечательного социолога Вадима Радаева. Изящный, остроумный разговор об обществе, его проблемах и страхах на примере популярных фильмов — почти все я смотрела впервые (даже «Бумер»!). Третья — полевой дневник замечательной фольклористки Натальи Колпаковой «У золотых родников. Записки фольклориста», записи полевых экспедиций первой половины прошлого века. Это не только потрясающе красивая проза, от которой чаще бьется сердце у любого, кто хоть раз был на Русском Севере, но и замечательная автоэтнография, возможность пережить вместе с исследовательницей ее опыт поля и подумать над тем, как метод, материал и оптика одновременно и приходят изнутри нас самих, и меняют наше самоощущение и взгляд на мир.

Однажды мой приятель-историк, далекий от чтения художественной литературы, сказал: «Что же вы все так носитесь с этим несчастным худлитом! Я за всю жизнь прочел не более пяти романов, зато все они были ****** [потрясающими]». Я оценил такой подход, но зачем-то упомянул Ролана Барта с его «Удовольствием от текста», за что тут же был проклят товарищем. По его мнению, трудам прославленного структуралиста не доставало, с одной стороны, ****** [гениальности] «Евгения Онегина» и «Дон Кихота», с другой — научной ценности писцовых книг Старицкого уезда.
Назову несколько преимущественно художественных текстов, прочитанных мною в течение года, и проверю их на соответствие первому критерию.
В начале года решил пройтись по «пути вычитания» и читать тексты Беккета в хронологическом порядке. Удалось доползти до «Безымянного» и понять, что продолжать я все-таки не могу. Но в следующем году буду продолжать. Творческая траектория Беккета, которую рассматривает Анатолий Рясов в своей книге, — постепенное движение от барочной, перенасыщенной аллюзиями прозы к текстам, предельно отдаленным от традиционного повествования, обозначившим невозможность продолжения письма, — пример удивительно удачного писательского проекта. Иронично, что говорить в данном случае приходится об авторе, который буквально манифестировал неудачу («Fail again. Fail better»), а присуждение к Нобелевской премии назвал «катастрофой». Беккет отмечал, что с годами ему становилось все труднее писать. Читать его позднюю прозу тоже довольно непросто, но я продолжаю. Меня заставляет это делать восхищение его писательским и человеческим мужеством. Всем юным литераторам, находящимся в поисках духовного авторитета, мертвого отца, я бы дал совет поставить портрет Сэмюэла Беккета куда-нибудь на видное место — может быть, это заставит их не продолжать. ****** [потрясающая] литература? Определенно.
Перечитал «Плотницкую готику» Уильяма Гэддиса, который проходит по разряду «сложных» авторов. Текст действительно хитро организован технически и сюжетно, но Гэддис, как справедливо отмечает Стивен Мур в своей монографии, был скорее старомодным социальным критиком, чем оголтелым авангардистом. Гэддис рассказывает вполне доступную историю и развивает классические для американской литературы темы: семья, страна, религия, деньги. Безусловно, выдающийся образец писательского мастерства, но на пресловутом необитаемом острове можно обойтись и без этого романа.
«Kongress W Press» продолжает заниматься популяризацией малоизвестной у нас американской литературы: после монографии о Гэддисе за авторством Стивена Мура в издательстве вышли тексты Лэнса Олсена и Харри Крюза.
«Календарь сожалений» Лэнса Олсена — коллажный роман из 12 повествований, которые связываются между собой мерцающими мотивами, перекличками неявных тем. «Календарь» начинается историей отравления Иеронима Босха в сентябре, затем повествует о нападении на ведущего CBS Дэна Разера в октябре, продолжается серией ноябрьских заметок на фотокарточках в духе Зебальда и далее следует календарю вплоть до августа. В центре книги оказывается история мальчика, рожденного блокнотом, затем повествование идет в обратном направлении и читатель возвращается к Босху в сентябре. То есть первую половину книги автор создает интригу — довольно успешно, надо сказать, иным жанровым писателям есть чему поучиться, — а во второй истории вроде бы должны складываться в нечто цельное, но у меня вторая половина «Календаря» ничего кроме сожалений не вызвала. Может, в том и была задумка? «Календарь сожалений» оказался типичным романом преподавателя creative writing: ладно скроенным, написанным хорошо, только не особо понятно зачем. Видимо, тот случай, когда писателя не остановил даже пронзительный взгляд Беккета.
«Детство: биография места» Харри Крюза — мемуары классика южной готики с блербами Джозефа Хеллера, Гая Давенпорта и Терстона Мура. Заметил, что после текстов Фланнери О’Коннор и Уильяма Фолкнера невыдуманные жуткие рассказы Крюза кажутся почти будничными, хотя то жизнь, а не литература.
Так, например, Крюз в возрасте шести лет, устроившись работать в мясницкую лавку, становится свидетелем следующий сцены: мужчина в приступе отчаяния вбегает в лавку, ищет нож, находит его и продолжительное время кружит по лавке в попытках вбить нож себе в грудь, а когда ему наконец это удается, он сообщает: «Я убил ся». Впрочем, сам Крюз пишет, что в историях мужчин всегда присутствует юмор, как бы ужасно они ни звучали. Книга не разбила мне сердце, но с другими текстами Харри Крюза захотелось ознакомиться.
Прямо сейчас читаю «Торговца дурманом» Джона Барта — произведение, заслуживающее отдельного разговора. Скажу только, что эта грандиозная квазиисторическая пикареска и роман воспитания — единственный текст из списка, который я мог бы спокойно рекомендовать строгому приятелю-историку. Читателям «Горького» тоже очень рекомендую.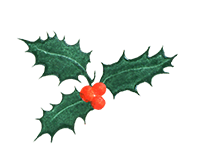
Поскольку в этом году я активно работал над диссертацией, то большую часть читательского внимания заняли книги из списка литературы.
Отдельно хотелось бы выделить сборник эссе Михаила Берга «Андеграунд. Итоги. Ревизия», в котором свидетель петербургской нонконформистской жизни с характерной для его публицистических и научных текстов отточенной логичностью развеивает уже сложившиеся мифы вокруг литературы этого типа.
Еще одним интеллектуальным удовольствием стала книга Марка Липовецкого и Ильи Кукулина «Партизанский логос», посвященная Дмитрию Александровичу Пригову. Этот труд, ставший результатом десятилетней кропотливой работы, демонстрирует, на мой скромный взгляд, то лучшее, что есть в сегодняшнем русскоязычном литературоведении, — тщательность сбора и концептуализации материала в сочетании с изысканным и сложным теоретизированием, не перекрывающим сам материал.
В той же серии издательства «НЛО» вышла еще одна книга, лично для меня открывшая новую Америку, — исследование Павла Арсеньева «Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов». Кажется, мало кто (если вообще кто-нибудь до Арсеньева) анализировал медиа и их влияние на поэтику авторов.
В целом книги Арсеньева, Липовецкого и Кукулина стали для меня, как для молодого исследователя, образцами качественных филологических исследований, на уровень которых хотелось бы равняться.
Однако нашлось время и на внеклассное чтение. Часть его я уделил заполнению лакун в своих знаниях по истории, и отдельным личным подвигом можно назвать знакомство с объемной трилогией Эрика Хобсбаума «Век революции», «Век капитала» и «Век империи», посвященной долгому XIX веку. Кажется, последовательное чтение этого исследования надолго удовлетворило мою жажду к крупным историческим панорамам, а значит, недавно вышедший трехтомник Юргена Остерхаммеля пока придется отложить.
Не менее захватывающей стала книга Александра Чудинова и Дмитрия Бовыкина о Великой французской революции. Особенно поразительной при чтении была дистанция (или, вернее, пропасть) между моим изначальным ощущением закономерности и предопределенности причин, процесса и последствий ВФР и той неопределенностью и ситуативностью происходящего, которое бережно воссоздано на страницах этой книги. Думается, что нам порой не хватает этого взгляда на историю как на творимое нами, а не предзаданное извне.
Завершить этот обзор хочется упоминанием еще одного эпохального труда (видимо, время способствует чтению крупных произведений). Написанный ровно сто лет назад роман Томаса Манна «Волшебная гора» поразил слишком многими сходствами с сегодняшним днем: и всеобщей болезненностью в интерьерах дорогого и комфортного отеля, и бессильными поисками хоть какой-либо опоры в стремительно разрушающемся мире, и ошарашивающей неспособностью главного героя делать выводы из собственной жизни.