Молчать! Кого Тютчев призывал соблюдать тишину в стихотворении «Silentium!»
Почему нам всем нужно держать язык за зубами, скрываться и таить свои мечты и чувства
Роман Лейбов: «Стихотворения, присланные из Германии» — так назывался цикл Тютчева, напечатанный в пушкинском журнале «Современник» (или не цикл, а подборка стихов), и сегодня мы поговорим об одном из стихотворений Тютчева, написанных в Германии, заглавие его — «Silentium!». Максим, вам слово.
Максим Амелин: Я, честно говоря, читаю это заглавие не «Силенциум!», а «Силентиум!», потому что такова классическая устоявшаяся традиция, а кроме того, насколько я помню, таково было требование молчания в аудитории в Германии. Поэтому «Силентиум!» все-таки:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..
Роман Лейбов: Спасибо большое. Передаю слово Олегу Лекманову.
Олег Лекманов: Мы собрались здесь для того, чтобы полтора часа говорить о стихотворении, автор которого призывает к молчанию. Невольно вспоминается сцена из романа, популярного в годы юности моего папы:
«Альфонс удовлетворенно кивнул:
— Сыграю вам сейчас новую пластинку. Вот удивитесь! Он подошел к патефону.
Послышалось шипение иглы, и зал огласился звуками могучего мужского хора. Мощные голоса исполняли „Лесное молчание”. Это было чертовски громкое молчание».
Может быть, нас отчасти оправдывает то, что в смешном положении оказываемся не только мы, но и сам автор стихотворения, ведь и он страстно (восклицательный знак в заглавии) говорит о том, что лучше бы помолчать, ведь и он в «Silentium!» отнюдь не скрывает свои «чувства и мечты» от читателя.
Можно ли воспринять это поэтическое высказывание, призывающее к молчанию, как не парадоксальное? Я думаю, можно, если предположить, что Тютчев в стихотворении «Silentium!» говорит не от себя, точнее, он берет на себя, поэта, роль некоторой высшей силы, которая формулирует объективные истины и непреложные моральные установления. Как и в зачине другого знаменитого стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...» «Вы» — «мните», а я знаю и сейчас для вас сформулирую. Насколько я помню, Тютчев ни в одном стихотворении подробно и специально не пишет о роли поэта как божественного инструмента для формулирования истин и законов, но проговорки, показывающие, что именно так он функцию поэта иногда понимал, в его стихотворениях встречаются несколько раз. Например, о месяце, которому ситуативно уподобляется поэт: «Настала ночь — и, светозарный бог, / Сияет он над усыпленной рощей!», или о себе самом: «Поэт всесилен, как стихия, / Не властен лишь в себе самом». Не властен, по-видимому, и в том, молчать ему или говорить.
Роман Лейбов: Спасибо. Есть некоторые обстоятельства, которые заставляют меня немного дольше поговорить о молчании. Начну я вот с чего, пожалуй: когда я был молод, а Москва была меньше, однажды я отмечал свой день рождения в Москве у Димы Ицковича в клубе, который тогда, по-моему, вообще никак не назывался еще, и находился он на Патриарших прудах в одной частной квартире. Было много народу, и в том числе народу незнакомого, как обычно бывает на днях рождения, когда ты отмечаешь их не дома. И была одна девушка, я даже помню, как ее звали и кто ее привел. Она была дальняя родственница или свойственница (я не знаю, как правильно говорить о далеких и непрямых потомках) Тютчева. Во всяком случае, фамилию она носила ту же, что знаменитый исследователь творчества Тютчева, автор до сих пор ценимой монографии о нем. И немножко, видимо, желая меня шокировать, эта моя новая знакомая сказала мне, что «о Тютчеве я знаю две вещи: он был антисемит и писал стихи». На что я сказал ей: «Сейчас я вас удивлю. Во-первых, Тютчев не был антисемитом, во-вторых, он не писал стихов».
Насчет того, что Тютчев не был антисемитом, если позволите, я не стану расшифровывать. Если вам это будет интересно — ну, он просто не был антисемитом, вот и все. У него на его ментальной карте такого вопроса не было, в отличие от его младших современников — Достоевского, например. Но Тютчев был совершенно вне еврейской проблематики.
А насчет того, что Тютчев не писал стихов, — понятно, это некоторое парадоксальное преувеличение. Но в общем на это внимание обратил еще первый биограф Тютчева, его зять (муж его дочери), автор замечательной биографии Тютчева, Иван Сергеевич Аксаков. Он пишет о том — я пересказываю, — что стихи никогда не были у Тютчева результатом труда, они как бы просто выливались из-под его пера так, как они создавались. И человек, который работал с рукописями Тютчева, знает, как это выглядит: рукописи Тютчева — никогда не черновики, это всегда беловики с очень незначительным количеством поправок. Иногда там описки какие-то, которые исправлены, но это совершенно не похоже на черновики Пушкина. (На это можно сказать, что Пушкин представляет собой другую крайность — такой труженик стиха. Это правда. Несмотря на легкость фактуры стиха, Пушкин очень трудолюбив.) Но даже внешне это выглядит как-то мизерабельно: рукописи Тютчева — всегда на каких-то обрывках бумаги, они всегда на клочках. Бумага в то время денег стоила, конечно, но не таких уж безумных, чтобы нельзя было себе позволить записать стихотворение на четвертушке бумаги или на осьмушке. Очень часто эти обрывочки (это мы знаем уже по позднему Тютчеву) сохранялись, потому что кто-то их записывал за поэтом или кто-то просил их записывать. Когда Тютчев уже как-то сжился с ролью поэта, которая была ему совершенно не близка, от него уже стали ждать стихов к каким-то датам или к каким-то событиям. И есть замечательная формулировка в одном из писем дочери Тютчева, как раз Анны Федоровны, которая была замужем за Аксаковым, что «у папА уже есть стихи по этому поводу, только нужно их еще написать». Вот это типичный Тютчев. И кстати, этих стихов нет. Это к определенной дате, и к этой дате тютчевских стихов нет. Но они были. Они были где-то в голове у Тютчева.
Есть замечательная история про очень хорошую миниатюру тютчевскую — не самое известное стихотворение, хотя и не сказать, что это забытый текст.
Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья, —
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...
История этого текста удивительна. Шло заседание Цензурного комитета, а Тютчев был достаточно высокопоставленным чиновником в этом ведомстве и на заседания ходил, когда у него не было приступов разных болезней. И после заседания все встали и ушли, пришли люди, которые убирают со стола бумажки, а один из сослуживцев Тютчева обратил внимание на то, что Тютчев что-то писал во время заседания. И он не дал выбросить эту бумажку, он ее схватил и сохранил. И потом ее напечатал. Если бы он ее не схватил, у нас бы не было такого стихотворения Тютчева. А сколько его сослуживцев не заметили таких бумажек? А сколько Тютчев не записал таких стихов?
Так что в определенном смысле в «Силенциум!» (я буду произносить все-таки согласно этой норме) парадокса нет. Во-первых, это гораздо более радикальное высказывание, чем высказывание Жуковского, которое обычно вспоминают в связи с Тютчевым, — «Невыразимое». Но «Невыразимое», вообще говоря, не об этом. Оно о том, что мы о чем-то можем сказать, а о чем-то можем промолчать, и это молчание будет более красноречивым. А у Тютчева речь совершенно не о том. У Тютчева действительно это очень радикальное высказывание, это о том, что «...На улице вьюга / Все смешала в одно, / И пробиться друг к другу / Никому не дано», и то, что Тютчев делает со своими стихами, соответствует этому высказыванию. Мне не видится противоречия между очень странной поэтической стратегией Тютчева и этой декларацией.
Об истории этого текста, как обычно бывает с тютчевскими текстами, мы знаем мало. Мы не знаем, когда он был написан. Дата, как вы видели, приблизительная. То есть мы знаем, позже какого времени оно не могло появиться, но не знаем, когда именно в 1820-е годы оно было написано. Тютчев написал его, скорее всего, в Германии. Его печатали при жизни поэта несколько раз, в первый раз оно было напечатано в 1830 году, в газете «Молва» в Москве. Неизвестный правщик «Молвы» (можно предположить, что это был сам редактор Николай Надеждин) исправил строчки вот таким образом:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и кроются оне,
Как звезды мирные в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.
Вторая строфа осталась не исправленной, что подсказывает мне, что по крайней мере Надеждин, редактор «Молвы», не читал строчку «Взрывая, возмутишь ключи» так, как ее прочитал Максим (с ударением на «у» во втором слове). Я понимаю, почему Максим ее так прочитал — для того, чтобы в каждой строфе были строчки с нарушениями ямба в одном и том же месте. Но Надеждину не показалось, что эта строчка выламывается из ряда, то есть для него все же форма «возмУтишь» не была актуальной. А вот дальше кто-то опять исправил:
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит житейский шум,
Разгонят дневные лучи, —
Внимай их пенью — и молчи!..
Во второй раз этот текст стал править зять (но на этот раз уже брат жены) Тютчева Николай Сушков, забывший об этой публикации и забывший об этой правке. Очень долго стихотворение так и печаталось, вплоть до ХХ века, с правкой «и всходят, и зайдут оне» (между прочим, в «Молве» гораздо лучше была правка), «как звезды ясные в ночи» (а не «мирные», тут тоже надо отметить, что в «Молве» потоньше было), «их заглушит наружный шум, / дневные ослепят лучи» (тут уж не знаю, что предпочесть).
 «Silentium». Эдуард Мане (1864)
«Silentium». Эдуард Мане (1864)
Эти строчки совершенно определенно выламываются из размера. Размер — четырехстопный ямб. На что это похоже? Это похоже, например, на французские силлабические стихи. Это французский восьмисложник. Но совершенно непонятно: откуда французский восьмисложник, почему французский восьмисложник? Никогда больше у Тютчева такого не было, все его остальные метрические странности устроены абсолютно по-другому. И это замечательно и интересно, по-моему. Поэтому я сейчас прекращаю дозволенные мне речи и передаю слово Андрею Семеновичу Немзеру.
Андрей Немзер: Добрый вечер. В свое время, давно, не мне лично, но при мне Юрий Лотман чрезвычайно энергично рассказывал о своей беседе по поводу этого стихотворения с Андреем Зализняком, который сказал Лотману, что все ударения и в этом стихотворении, и остальные тютчевские странности («льдинА за льдиною плывет...»), совершенно естественны для языка XVIII века, что чудесным образом соотносится с концепцией тютчевского архаизма, которой, в общем, никто пока не отменял, хотя, возможно, и не стоит энергично ее отстаивать. Юрий Михайлович не утверждал, подчеркну (я не хочу возлагать на великого ученого лишнюю ответственность), что так оно и есть. Он говорил, что может быть так, а может быть и не так.
Честно говоря, я по своей отсталости никогда не произносил эти три строки — четвертую, пятую, семнадцатую, — но они у меня вызывали ощущение двойственности вот этой своей проблематичностью.
Я не понимаю, зачем, имитируя французский восьмисложник, делать это в двух смежных строках одной строфы, в одной строке третьей строфы и, может быть, еще в одном слове второй строфы, как прочитал Максим. Зализняка спросить мы не можем, но, возможно, и такая норма была. Кстати, она оказывается тоже архаизмом.
Из всего этого у меня возникло ощущение, что, действительно, может — так, может — сяк. Но это «может, так, а может, сяк» не имеет никакого значения. И здесь я должен с большим удовольствием согласиться с Романом Григорьевичем: это текст внутренний. И совершенно неважно, скандируется он (к чему нас приводит очень простой синтаксис, хотя с некоторыми исключениями, но на скандовку настраивающий) или, наоборот, бормочется. Совершенно неважно, архаизмы это, действительно Тютчеву присущие (и понятно, что они были ему присущи не только в поэтической речи), или, наоборот, прорывы в будущее с сознательным расчетом: и то, и другое абсолютно соответствует посылу стихотворения. Молчи, тебя не услышат, и совершенно неважно, как тебя услышат. Бьет тебе в голову, или ты что-то там перенашептываешь.
И здесь мне нужно сделать еще один ход — собственно, о том, как мне видится смысл этого стихотворения. Этого уже коснулся Роман, и я думаю в том же ключе, только если Роман сказал, что Тютчев радикальнее Жуковского, то я в данном случае радикальнее Романа: это стихи против Жуковского. Не в том смысле, что это прямое возражение на «Невыразимое», — может, так, может, не так. Концепция «Невыразимого» достаточно ясно разлита и в других сочинениях Жуковского. О чем скорбит Жуковский? О невозможности сказать то, что он ощущает. Его молчание действительно понятно говорит. О чем это молчание? О грандиозности и величии Божьего мира. Есть слова для блестящей красоты, а то, что слито со зримой красотой, мы выговорить не можем. В стихотворении же Тютчева нет внешнего мира. Не только мысли в тебе, но и все звезды в тебе. Все ключи — непонятно от чего и непонятно к чему. (Замечу: я совершенно не враг этого стихотворения и не требую, чтобы мне всегда объясняли, от чего где «ключи».) Вот все это — внутри.
Отсюда, если угодно, оксюморонность заглавия, семантика которого противоречит пунктуации, хоть так, хоть сяк. Все внутри меня. Это решительное отторжение, собственно, Божьего мира и человека, включая самого себя. Совершенно, опять-таки, неважно, от чего отходит Тютчев, что лежит в подтексте строки «мысль изреченная есть ложь» — 151-й псалом или Державин, его перефразировавший? Всякий человек есть ложь — псалмопевец сокрушается, что он в гневе своем так подумал, а Державин, наоборот, словно бы не замечая этого смысла, говорит:
Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож.
Кто сколько мудростью ни знатен,
[обратим внимание на эту самую мудрость. – А. Н.]
Но всякий человек есть ложь.
Именно в таком сочетании, когда есть мудрость, которая не может не высказываться, а мудрость в том, что человек есть ложь, — фундамент нашего стихотворения. Скорее всего, Тютчев помнил и Псалтирь, и «Фелицу», но это не так уж существенно. Существенно то, что, приняв любую «звуковую организацию» текста, мы остаемся при смысловой двусмыслице.
Рисуемый в тексте мир и ощущения самого поэта, на мой взгляд, идеально друг другу соответствуют.
Кстати, возвращаясь к странностям и к возможной перестановке акцентов. Поразмышляв сегодня, попытавшись читать то так, то сяк, — я понимаю, как важно было Максиму принять его «произносительное» решение. Это не вопрос того, сколько человек думает: наши важные решения иногда приходят после долгих чесаний в затылке, а иногда сразу. Так вот, я подумал: а почему, собственно говоря, не прочитать «встают и зАходят оне»? Конечно, это будет ориентация не на скандовку, а на бормотание.
Вот что мне пришло в голову. И мне важны эти видящиеся соответствия.
А дальше возникает вопрос: Роман, скажи мне, пожалуйста, а кто-нибудь видел текст, который Надеждин правил?
Роман Лейбов: Нет, никто ничего про это вообще не знает.
 Неизвестный художник. Портрет Федора Тютчева. Конец 1810-х. Москва
Неизвестный художник. Портрет Федора Тютчева. Конец 1810-х. Москва
Андрей Немзер: Так вот, почему я тебя про это спросил: никакой подковырки в моем вопросе не было. Есть ли у нас святая уверенность, что в Москву и в Петербург пришли одинаковые тексты?
Роман Лейбов: Нету.
Андрей Немзер: Нету. То есть, в принципе, мы можем задаться вопросом: почему текст, напечатанный в «Молве», удручает нас меньше, чем тот, что был выправлен Сушковым? Мы вполне можем допустить, что текст «Молвы» никем не правился, что именно так он был написан Тютчевым.
Роман Лейбов: Можем.
Андрей Немзер: А зачем Тютчеву потом потребовалось править — это мы в свое время с Романом Григорьевичем обсуждали, а потом Роман Григорьевич про это чудесную статью написал. Что именно поэт, который не пишет стихов, который предоставляет руке истории совершить корректурный труд, в какой-то ситуации ведет себя ну просто как Баратынский какой-нибудь, который не мог видеть, кажется, своего печатного текста, чтоб что-нибудь в нем не поменять. А вот ради чего, сознательно-бессознательно, это уже, что называется, не наша область.
Подчеркиваю: я совсем не хочу сказать, что байка, которую я сейчас рассказал, достоверна. Но исключить ее, такой ход событий, мы, по-моему, не можем. Если окажется, что можно, — ну и слава богу, проще будет. Держаться я за нее не стану.
Роман Лейбов: Прежде чем дать слово Илье, пару слов. Про «Молву» мы действительно не знаем ничего, и эту гипотезу исключить нельзя.
Да, другая вещь, которую я хотел бы сказать. Андрей Анатольевич — великий лингвист, и про ударение русское знал гораздо больше, чем мы все вместе взятые, включая наших слушателей. Но тут проблема такая: конечно, мы можем это сопоставлять с XVIII веком, но имеет смысл сопоставлять в первую очередь с другими текстами Тютчева, а Тютчев никогда не употреблял форму «звездЫ» в значении «звёзды». Ни одного другого случая у него нет.
Но с другой стороны — с третьей уже — в силу того, что я говорил о Тютчеве, а черт его знает, что у него там звучало в голове. Это действительно такой великий Винни-Пух русской поэзии, у которого, вероятно, постоянно звучали какие-то «шумелки, и вопилки, и кричалки» в голове, но которые на самом деле далеко не всегда выливались на бумагу, и мы не понимаем вообще, с каким корпусом мы имеем дело, насколько этот корпус адекватен внутреннему корпусу Тютчева, тем ключам, которые били у него внутри.
Андрей Немзер: Буквально полслова к тому, что ты сказал, — что надо сопоставлять с другими словоупотреблениями Тютчева. Книжка-то, хоть «томов премногих тяжелей», но очень небольшая. И на таком просторе — извините, не Майков и не Вячеслав Иванов! — на таком просторе можно и не найти ничего. Все слишком сжато.
Роман Лейбов: Да. Я, собственно, об этом и говорю: выборка маленькая, а весь объем «вопилок» нам неизвестен. Насчет Майкова и Вячеслава Иванова могу только добавить: и слава богу.
Илья, вам слово.
Илья Виницкий: Во-первых, спасибо за приглашение. Чудесная идея семинара, посвященного сильным текстам. Во-вторых, любопытно, как получается, что то, о чем буду говорить я, действительно очень органично продолжает то, о чем шла речь выше. Размышляя об этом стихотворении, я придумал даже название «Знак молчания: о чем говорит „Silentium!”». В общем, об этом стихотворении так много сказано, что я, признаться, вначале думал о том, чтобы попробовать в виде провокации в течение нескольких минут помолчать о нем, медитативно закатывая глаза перед камерой, и породить таким молчанием по народной примете (не к американской ночи будь помянутого) Милицанера. Но я молчать не умею (все-таки я филолог), как не мог молчать и один из самых горячих поклонников «Silentium!» Л. Н. Толстой, некогда пометивший при чтении это стихотворение литерой «Г», то есть «глубина». В глубину — натурфилософскую, метафизическую, мистическую или идеально-романтическую — я не хочу прыгать из водобоязни, а сосредоточусь в своем выступлении лишь на одном аспекте стихотворения, который считаю ключевым («взрывая, возмущу ключи»): на восклицательном знаке в названии этого стихотворения (графически — поднятый перст, символизирующий добродетель silentium) и связанной с ним традицией, смело трансформированной поэтом.
Я также попробую вывести этот сильный текст из привычного для исследователей Тютчева архаичного, барочного или одического генеалогического контекста.
В общем и целом задачу свою я вижу в том, чтобы разговорить этот текст, написанный, по всей видимости, в Германии, поместив его в актуальный для автора, но до сих пор, насколько я знаю, не замеченный словесный социальный контекст.
Хочу также подчеркнуть, что меня здесь будет интересовать не столько истолкование, сколько формальная реконструкция зарождения этого стихотворения, когда оно еще, по словам другого уже упоминавшегося здесь поэта, «и музыка, и слово, и потому всего живого ненарушаемая связь».
Русская история этого стихотворения началась с говорящего парадокса. Впервые «Silentium!» напечатали в газете под названием «Молва» в марте 1833 года. Причем помещено оно было на первой странице этой издававшейся при журнале «Телескоп» газеты мод и новостей, сразу под названием издания и напротив отзыва о концертах «Постные забавы в Москве», посвященного неспособности журналистов выразить словами весь калейдоскоп мыслей их читателей.
Заголовок этого стихотворения никому еще не известного автора безусловно бросался в глаза — латинское слово с восклицательным знаком. Как впоследствии заметил В. Я. Брюсов, «восклицательный знак здесь знаменателен, ибо дает особый оттенок всему стихотворению». В ХХ веке такое же название даст своему стихотворению Мандельштам, в книжной публикации 1916 года, но без восклицательного знака.
С грамматической точки зрения перед нами случай использования имени существительного в функции побудительного наклонения вроде «Внимание!», «Перекур!». Но слово здесь почему-то выбрано латинское, высокое. Оно не только представляет собой требование, но и, по всей видимости, отсылает читателя или слушателя к какому-то устойчивому контексту употребления.
К кому вообще относится этот призыв? Во втором семинаре этой серии, посвященном Бродскому, А.С. Долинин превентивно указал на автоимперативный характер этого стихотворения — призыв поэта к самому себе: «Молчи!». В таком случае забавно, что сразу после этой автокоманды «послушный» автор начинает говорить. Или, может быть, это обращение к другим, требующее тишины для того, чтобы выслушать поэта, вроде латинского эпиграфа к «Поэт и толпа» Пушкина 1828 года: «Procul este, profani» («прочь, непосвященные»)?

Кстати сказать, мы уже так привыкли к этому заголовку, что почти не чувствуем его необычной агрессивности, усиленной лапидарной латинской командой. «Заглавие, — писал один из первых исследователей Тютчева Р. Ф. Брандт, — нехорошо, оно пошловато, да и не значит просто „молчать”, а „молчите, другой будет говорить”». Кто и кому отдает этот приказ или, используя термин из подходящей к случаю теории речевых актов, перформатив? Как вообще связан этот поэтический текст с провозглашенным в его заголовке требованием немоты? Я думаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего установить — а точнее сказать, выбрать — актуальное для поэта значение призыва «Silentium!» (я тоже произношу «Силенциум») в известном ему социолингвистическом репертуаре.
Можно выделить три контекста употребления этого латинского призыва в 1820–1830 годах, близких Тютчеву.
Первый — риторический, связанный с древнеримской литературой и ораторским искусством. Первую Тютчев хорошо знал: в раннем возрасте он переводил Горация, в том числе и оду, в которой упоминается высокое, сакральное молчание. Стоит также заметить, что автограф «Silentium!» — по крайней мере, тот единственный, который есть у нас, — сохранился на обороте стихотворения Тютчева «Цицерон», где перифразирована одна из знаменитых речей оратора. «Silentium» является важной темой в теории ораторского искусства Цицерона — например, он говорит о красноречивом молчании. Но ни Гораций, ни Цицерон, насколько я знаю, не использовали ту форму, которую дает в названии своего стихотворения Тютчев. Их «silentium» всегда идет с эпитетом или дополнением.
Второй контекст — католический, прекрасно знакомый Тютчеву, внештатному русскому атташе в католической Баварии. «Silentium» — не только важный принцип монастырской жизни (бенедиктинский обет, специальное место в монастыре, отведенное для молчания, мистические трактаты о молчании как добродетели, квиетистская апология так называемой немой молитвы), но и само это слово используется в католической мессе. Замечу, что этот литургический момент нашел свое отражение в творчестве другого русского поэта, воспевавшего невыразимое словами религиозное переживание, — уже упоминавшегося Жуковского, «На смерть Королевы Виртембергской»: «Когда молчит во храме пенье, / И вышних сил мы чувствуем исход...». Но опять же, в мессе (да и в православной службе, естественно) нет этого выражения в той форме, что у Тютчева. Это часть более длинного латинского призыва к верующим. Да и сам православный поэт предпочитал на Западе слушать богослужения лютеран.
Третий контекст — университетский, студенческий. Именно на него обратил внимание первым упоминавшийся мною выше Брандт. «При слове „Silentium!”, — писал он, — несомненно нужен восклицательный знак, так как это студенческое восклицание „Молчание!”, „Молчать!”». Это наблюдение подхватил со ссылкой на Брандта американский исследователь и переводчик Тютчева Анатолий Либерман, утверждавший, что название этого стихотворения восходит, как уже отметил в начале Максим, к школьному употреблению. Учитель говорит: «Молчание!», потому что сам собирается говорить. Но! Во-первых, Брандт ничего не говорит о цели использования этого латинского выражения. А во-вторых, как мне кажется, он подразумевает вообще другую традицию, никак не связанную со школьными уроками и речью педагогов. Я имею в виду знакомую всем германским профессорам и студентам XVIII–XIX веков, а также многим европейским путешественникам по Германии, традицию праздничных собраний (Kneipe) университетских корпораций, землячеств, в которых иногда участвовали, как мы бы сейчас сказали, все агенты педагогического процесса — от ректоров и патронов университета до первокурсников. Эта немецкая традиция была хорошо известна в русской литературе XIX века и дальше. Ее описывали писатели от Александра Вельтмана до Константина Федина (последний — в пьесе о Бакунине в Германии). В XIX веке она практиковалась и в альма-матер нашего ведущего, Романа Григорьевича Лейбова, в Дерптском университете. Я не буду приводить красноречивых описаний этого ритуала и только остановлюсь коротко на том, какое место в нем занимал призыв «Silentium!». Шумный университетский круг собирается; председатель ударяет искусственной шпагой или рапирой по столу и громко произносит: «Silentium!». Замечательно, что это не просто призыв к тишине, но и призыв к коллективному исполнению студенческих песен, специально подготовленных заранее в печатном виде: сначала «Гаудеамус», потом, после каждого нового «Silentium!», — в честь Бога, Германии, студенческой жизни, прекрасных женщин и так далее, песен было десять и больше. Эта корпоративная традиция, получившая название «Silentium ad cantum» (тишина для песни,"Silentium! Wir singen als erstes offizielles Lied«), нашла отражение не только в немецкой литературе (песни в разных вариантах, сборники, один из самых многословных так и назывался — «Silentium: сборник речей и песен на торжественных собраниях университетов»), но и в музыке (в опере Вагнера «Die Meistersinger von Nürnberg» 1868 года хор поет «Silentium, silentium! Пробудись, уже видна заря нового дня!» — слова, которыми поэт Ганс Сакс приветствовал Лютера и Реформацию. После этого призыва Сакс исполняет свою знаменитую арию).
Можно привести множество примеров, подтверждающих, что в университетской среде в эпоху пребывания Тютчева в Германии призыв «Silentium!» был связан со следующей за ним песней, как «Будь готов!» с «Всегда готов!» у советской пионерии. В 1820-е годы молодой Тютчев был не только посетителем салонов. Он слушал лекции Шеллинга, дружил с ректором Мюнхенского университета, с поэтом-«песенником» Гейне, возможно, посещал национальные празднования, к которым иногда присоединялся и сам баварский король-стихотворец. Следует также заметить, что в конце 1820-х — начале 1830-х годов, в канун начала революционных потрясений в Европе и нового витка в истории германского националистического движения, некоторые шумные корпоративы немецких буршей приобретали политически радикальный характер требования немедленного действия и борьбы с несправедливостью, царящей в обществе (традиция Burschenschaft). Кстати, в Рождество 1830 года в Мюнхене были студенческие волнения, вызванные реакцией властей на вольные песнопения. Из-за этих волнений были высланы студенты-иностранцы. Но консерватору Тютчеву едва ли было интересно среди веселых буршей и явно не по пути с молодыми активистами.
Тут мне нужно самому себе возразить: помилуй, ведь стихотворение ну никак не связано с этой шумной традицией по своему содержанию! На это автозамечание я сам себе отвечаю: еще как связано. Дело в том, что, как давно было замечено, эта тютчевская романтическая декларация отличается весьма необычной ритмической формой. И Роман, и Максим, и Андрей Семенович обращали внимание на просодию. Но я хочу обратить внимание на строфику. Каждая из трех строф этой декларации включает в себя три парные рифмы, причем последняя рифма является общей для всех строф, это рефрен, каждый раз заканчивающийся словом «молчи». Схематически это выглядит так: ААВВСС, DDEECC и т. д. Такая строфическая схема является весьма редкой, и использовалась она почти исключительно в одном жанре — в песне. В теории версификации ее называют stave stanza и связывают с традицией миннезингеров, французских вагантов и немецких застольных песен, популярных в корпорациях, в том числе и масонской. В истории литературы эта строфа знаменита благодаря использованию ее в «Песне Миньоны» Гете — «Ты знаешь край...?». (Тютчев вслед за Жуковским перевел эту песню на русский язык.) Наверное, впервые она была использована в русской литературе еще в «Новом и кратком способе» Тредиаковского — «Песня, сочиненная на голос и петая перед Анною Иоанновною». Использовалась она и в застольной песне московского поэта профессора Мерзлякова «Пир», того самого, который, по словам Ивана Аксакова, в годы учебы будущего поэта в университете радушно принимался и угощался стариками-родителями Тютчева у них в доме.
Примеров такой строфы много — в немецких песенниках она используется регулярно, на разные мелодии и часто с нотами. Если бы у меня было больше времени на подготовку, то думаю, я нашел бы немецкую мелодию, подходящую к стихотворению Тютчева.
«Ну и что из того? — говорит мой внутренний критик, все больше напоминающий вечно раздраженного проницательного читателя Чернышевского. — Не хочешь ли ты сказать, что „Silentium!” Тютчева — это песня?» «Хочу, — отвечу я себе, — только песня эта необычная, это песня в тютчевском парадоксальном смысле». На призыв к коллективному исполнению конкретной песни из напечатанной брошюры воображаемый гость на пиру — лирический герой Тютчева — отвечает стихотворением, написанным в традиционной форме песни. Кстати, императивы, которыми оно наполнено, характерны для пиршественных песен и романсов: от «раздайтесь» в зачине «Вакхической песни» до «не искушай меня без нужды» (Боратынский). Но это совсем не та песня, которая предполагается шумной студенческой традицией. И тут я совершенно согласен с добавлением Андрея Семеновича: это своего рода проекция жанра вовнутрь. Мысленная, индивидуальная, немая — в идеале — песнь. Отсюда замечательные «внимай их пенью и молчи». Вообще в романтической музыке крайне популярны были так называемые романсы без слов. Это, если проводить аналогии, нечто вроде той музыки сфер, которую внутри себя слышит, создает и исполняет Петя Ростов ночью накануне смерти.
Иначе говоря, «Silentium!» — эквивалент песни, внутренний ответ романтика на внешнее требование, написанный песенной, а не одической (здесь это, кстати, очень важно) строфой. Переводя этот тезис на язык социолингвистики, «Silentium!» представляет собой апологию работы внутреннего текста, точнее — внутренней песни. То есть речевого произведения, сформировавшегося в уме, в душе или сознании (как сказал бы романтик), но не воплотившегося устно или письменно. В этом смысле «мысль изреченная есть ложь» означает, как я думаю, «мысль исполненная». Не надо петь свои мысленные песни горланящей нетрезвой братии — извратят.
Причем самое интересное в этом формальном (еще раз подчеркну) случае — не столько песенная генеалогия этого стихотворения, сколько сам акт отталкивания от социальной, корпоративной в прямом смысле этого слова словесной культуры, то есть песни под звон кружек. Уход в себя частного, мыслящего, наслаждающегося и мучающегося своей положенной на слова музыкой поэта. Более того, такая формальная интерпретация стихотворения ставит под сомнение якобы представленное в нем скептическое отношение к слову. Апология молчания в конечном итоге оказывается декларацией силы слова, способного выразить и утаить музыку мысли. Латинский призыв «Silentium!» здесь синонимичен творящему слову-жесту «Fiat!» («Да будет!»).
Предложенная интерпретация отказывается и от традиционного прочтения этого стихотворения как квиетистского или исихастского призыва к внутренней тишине, отказу от рационализма и полному погружению в эмоции. Кстати, в пределе такое прочтение представлено в легендарной реакции хорошо известной студентам моего поколения тютчевоведки Ларисы Яковлевны Ермиловой, проговорившей в начале занятия: «Тютчев!» и немедленно выбежавшей в слезах из класса. Что там в ее мире чувств и дум произошло в этот момент, мы так и не узнали. Совсем иное, конечно же, чем у Тютчева.
И тут в конце самое время поставить вопрос о принципиальном новаторстве сильного поэта Тютчева, хорошо видном на примере этого текста. У старшего современника поэта, Жуковского, литургическое молчание в храме — это часть общего храмового действия, спроецированная в литературу. Это нисхождение благодати внутрь поэта, готовность его принести дар душою Богу или своему идеалу. Отсюда идет традиция к рыцарским стихотворениям Блока. Это часть ритуала. Вообще, едва ли не вся русская поэзия до и в значительной степени после Тютчева сохраняет институционный, ритуализированный характер: академия, салон, дружеское общество, студенческий кружок, полк, семья, кабак, философское общество, журнальный круг и тому подобное. Прием Тютчева, представленный в «Silentium!», можно назвать характерным для поэта резким уходом от институций в себя, эмансипацией поэтической личности от внешних ритуальных форм социальной деятельности. Поэтому из его поэзии, кстати, нельзя вывести стройную философскую систему. Разумеется, этот уход является риторическим и парадоксальным. В конце концов, «Silentium!» Тютчев согласился опубликовать в «Молве», потом в пушкинском «Современнике». Но риторика здесь — не «служанка серафима» и не гордое «лебедь не умеет хором», а собственная манифестация самогО тайного поэтического и политического в контексте 1830-х годов акта отталкивания от социума, выхода поэтического слова и личности из регламентирующих общественных рамок. Причем без толстовского шума и ярости. Такой тихий манифест ценящей и оберегающей свою мысленную музыку личности Тютчева, «человечка, — как заметила его современница, — в очках, очень некрасивого, но блестящего говоруна».
Напечатанное в русской газете и перепечатанное позднее Пушкиным в цикле тютчевских стихотворений, присланных из Германии, «Silentium!» утратило связь с немецкой корпоративной традицией почти сразу. Но память о своем музыкальном происхождении оно все-таки сохранило. В самом деле, внутренняя музыкальная форма «Silentium!» чувствовалась и чувствуется в русской культуре. В конце XIX века оно было включено в толстенный сборник русских песен, от литературных до кафешантанных, под романсовым названием «Молчи!». На этот текст написано больше дюжины музыкальных композиций, от кантаты до бардовской песни и рэповского речитатива, и вот еще есть исполнение Романа Лейбова. Создается впечатление, что композиторы подсознательно пытаются вернуть его в ту среду, откуда, как я полагаю, оно родом. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что Мандельштам в своем одноименном стихотворении — а название он выбрал не сразу — отвечает Тютчеву на его призыв к словесной музыке, «внимай их пенью и молчи», контрпредложением — музыкализацией слова, точнее, возвращением его в мифологическое лоно: «останься пеной, Афродита, и, слово, в музыку вернись». Но тут я бы, конечно, хотел еще подумать.
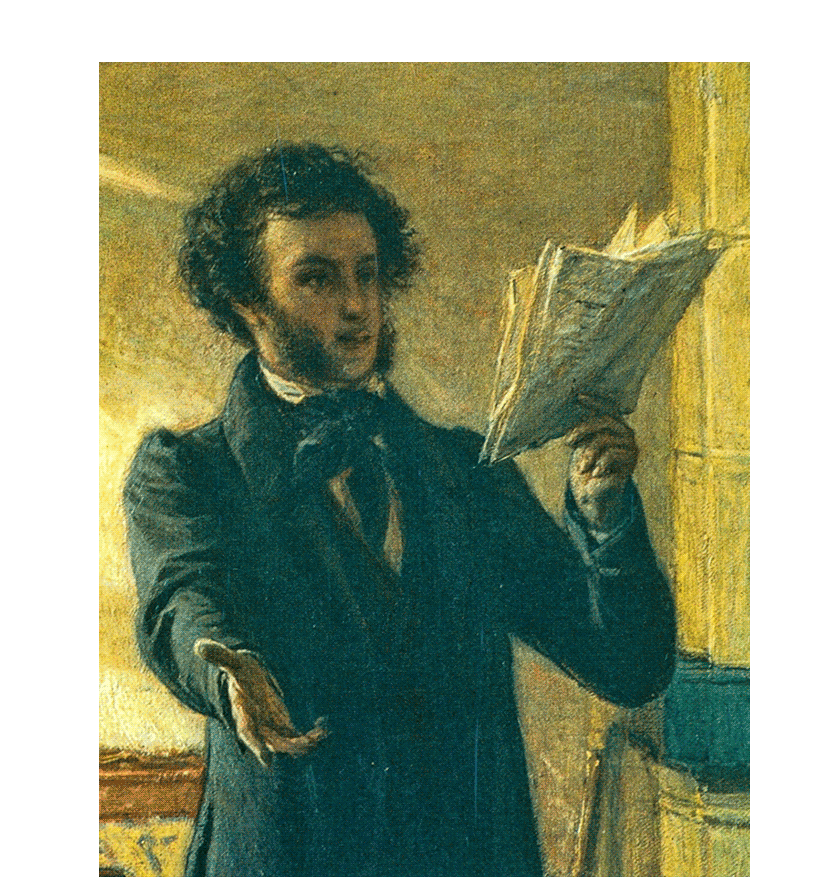 Неизвестный художник. Портрет Александра Пушкина
Неизвестный художник. Портрет Александра Пушкина
Чтобы не быть голословным, предлагаю в завершение послушать, хотя бы фрагментарно, музыкальную композицию, написанную на текст сильного «Silentium!». Это Борис Чайковский, кантата «Знаки зодиака» 1974 года.
Александр Журбин: Я думаю, что самое время мне сказать несколько слов, поскольку затронута непосредственно моя епархия, моя тема, то есть музыка и Тютчев. Но я хотел начать с другого. Наверняка вы все это знаете, и тем не менее я скажу на эту тему несколько слов. Дело в том, что молчание в музыке имеет довольно большую историю, и, конечно, вам известно про сочинение Джона Кейджа, американского композитора, которое называется «Четыре минуты тридцать три секунды». Пианист выходит на сцену, садится за рояль и четыре минуты тридцать три секунды он молчит. Потом кланяется и уходит. Я несколько раз присутствовал при исполнении этой пьесы в концертном зале, это всегда вызывает очень живой интерес. Причем у Кейджа есть книжка, которая называется «Silence», то есть то же самое, что «Silentium», только по-английски. И это довольно толстая книжка, где он объясняет, что это молчание не означает, что должна быть тишина. Нет, наоборот, во время молчания пианиста мы должны слышать автомобильные гудки, раскаты грома, что угодно. Мы должны слышать звуки, которые наполняют мир. И стихотворение Тютчева, как мне кажется, очень близко к этому. Потому что это не значит «все заткнитесь, все молчите, о чем говорить?». Нет, наоборот: вселенная наполнена звуками. Я выписал цитату из Константина Бальмонта, который говорил, что «Тютчев понял необходимость того великого молчания, из глубины которого, как из очарованной пещеры, озаренной внутренним светом, выходят преображенные прекрасные призраки». То есть для того чтобы рождались стихи, нужно, чтобы было тихо. И я, кстати говоря, как композитор, как человек, который сочиняет музыку, когда у меня спрашивают: «Что вам нужно, чтобы писать музыку?» — отвечаю: «Нужно одно: чтобы было тихо».
Вот прозвучала музыка Бориса Чайковского, которого я имел честь лично знать, и я как раз поинтересовался, сколько же все-таки романсов написано на стихи Тютчева. Сотни, буквально сотни! Каждое его стихотворение, буквально каждое, было много-много раз использовано разными композиторами. Из них был великий, конечно, Петр Ильич Чайковский, который написал два романса на его стихи, замечательные, но не ставшие, скажем так, хитами или шедеврами. А хитов ровно два на стихи Тютчева: это романс «Я встретил вас», музыку которого, считается, написал композитор Леонид Малашкин, но это неправда, я установил (причем даже я не установил, я просто лично знаю, и вы сейчас все наверняка удивитесь), что на самом деле автором этой музыки является не кто иной, как Иван Семенович Козловский. Кто мне это сказал — вы будете смеяться, мне это сказал Иван Семенович Козловский, с которым я общался и который сказал: «Вы знаете, действительно Малашкин что-то такое написал. Но там другая мелодия». Когда нашли клавир Малашкина, там мелодия-то была другая. А Иван Семенович придумал эту мелодию, что называется, под себя. Он замечательно это пел, и он сам, кстати говоря, прекрасно играл на рояле, и аккомпанировал себе, и пел всегда этот романс, и буквально с 30-х годов, не помню точно с какого года, этот романс стал известен, и это главный хит Федора Ивановича Тютчева.
И второй его, конечно, гениальный романс — это уже Сергей Васильевич Рахманинов, который называется «Вешние воды», или «Еще в полях белеет снег».
Это, конечно, абсолютные шедевры. Все остальное, к сожалению, хитами не стало. Попытайтесь меня переубедить — не удастся. Были модерновые версии, были классические, были любительские, дилетантские романсы на стихи Тютчева, но ни одного «хита» больше не было.
Однако я бы хотел, если уж мне позволено, как говорится «меня призвали Всеблагие, как собеседника на пир» (это я вас всех имею в виду)... Нет, я чувствую себя просто в каких-то высших сферах. ... я бы хотел задать один вопрос: почему такая странная разница между тем, что писал Тютчев — более того, не то что писал, а даже вот как он выглядел, — у нас фактически есть всего одна его фотография, и все вы ее, безусловно... ну, наверное больше, но всюду присутствует всегда одна фотография: такой седой, довольно мрачный, серьезный человек. И это никак не вяжется с его биографией! Его биография абсолютного такого бретёра, если хотите, шармёра (жена его даже называла «чаровник»), который был фактически двоеженцем, имел детей там, детей сям, и всегда в любом обществе считался невероятным светским львом. И этого совершенно не видно ни в его стихах, ни в его фотографиях. Вот объясните мне. Вопрос задаю всем вам, которые все знаете про Тютчева. Спасибо большое за внимание.
Олег Лекманов: Я бы хотел спросить у специалистов, к которым Роман Григорьевич явно тоже относится: ты начал с того, что Тютчев — такой «не поэт», дилетант, и Андрей, кажется, подхватил — отчасти, по крайней мере — эту линию. Ну не дилетант, а человек, пишущий на клочках бумаги и вообще себя поэтом не считающий. Но как тогда быть все-таки с довольно большим количеством текстов Тютчева (мне кажется, это важно и для стихотворения «Silentium!» тоже), где он прямо себя называет поэтом, встает в довольно-таки торжественную позу и, в общем, сверху вниз смотрит на тех, с кем он разговаривает? Понятно, что это очень эффектная концепция — человек, который бросает на ветер листочки, и они куда-то там улетают, но, кажется, в текстах Тютчева есть и другая позиция.
Роман Лейбов: У нас нет никаких доказательств тому, что «Не верь поэту, дева» или «Стихотворение о месяце» Тютчев прямо проецирует на себя. Зато мы точно знаем, что он никогда не употребляет, скажем, глагол «петь» в первом лице. Ни разу. Вот поэт — поет, а я что делаю — непонятно, что я делаю. То, что я сейчас делаю, перформативно. Он открыто противится называнию себя поэтом — мы знаем, что один раз он выразил свое неудовольствие по этому поводу, когда его назвали русским поэтом. И это не дилетантство. Ну то есть мы используем слово «дилетантизм», но просто потому, что у нас нет другого слова. Тут действительно нужно подумать, с чем это можно сопоставить. Я пока с ходу не могу придумать.
Андрей Немзер: Собственно, главное, по-моему, сказано. Я не произносил слова «дилетант» именно потому, что я его не понимаю. Дело даже не в том, что Тютчев обиделся, когда его назвали поэтом. Пушкин тоже не любил, когда его так называли... Это разные, так сказать, амплуа. Когда мы говорим, что это не поэзия, это совершенно не исключает даже того, что «Не верь поэту, дева» сказано о себе. Это не сводится к чистому позиционированию себя. Потому что, вообще говоря, люди живут по-разному, и нам гораздо легче создавать какую-то модель, чем видеть все особенности нашей личности. Вопрос в том, что поэзия для Тютчева есть дело глубоко интимное. Да, печатали его при жизни, и не то чтобы Тютчев тому очень сопротивлялся. Я думаю, что случай Тютчева просто чрезвычайно нагляден: вот возникает коллизия. Но если мы начнем вникать в то, сколь по-разному ведут себя поэты, — мы у каждого найдем некоторое отрицание поэзии, даже у Пушкина. Но он придумает для этого Чарского, который именует вдохновение «этой дрянью». А в принципе такое противоборствование «странному делу» — в природе вещей. Это общая проблема, из которой каждый выходит по-своему. С одной стороны, Державин резко разводит свою государственную деятельность и свою поэзию, он хочет быть признан как государственный человек. А, с другой стороны, в конце оды «На смерть Румянцевой» ни к селу ни к городу сообщается, что «врагов моих червь кости сгложет, а я пиит — и не умру». Совершенно про другое говорит. Замечательная ода, и удивительно хорошо эта концовка звучит. Но она как бы противоречит всем — правильным, корректным, разумным — построениям о двойном бытии Державина. Вот о чем речь.
А когда больше мы это акцентируем, когда меньше — вероятно, это тоже в поэтах заложено. Тютчев больше на это провоцировал, а Фет, который «пел», — меньше. Но между тем мы знаем, как Фет разводил эти сферы и что были годы, когда он почти не писал. И мы прекрасно понимаем, что Фет был не глупым, как про него все говорили, а одним из самых умных людей своего времени. Действительно, просто очень умным, и не только в хозяйственной сфере. Разные вещи бывают.
Максим Амелин: Я в данном случае выступлю от поэтического цеха и скажу, что существует два крайних поэтических типа: одни — пишущие, а другие — сочиняющие в голове. Пушкин — классический пример поэта пишущего, а Тютчев — классический пример поэта, сочиняющего в голове. Примирить их практически невозможно, это два разных типа, они до сих пор существуют. Например, Мандельштам тоже относится к поэтам не пишущим, а сочиняющим в голове, поэтому так мало его автографов сохранилось. А теперь я передаю слово нашей пытливой молодежи.
Вениамин Ицкович: Придется тоже что-то сказать. Очень хочется молчать, если честно. Это связано, наверное, не только со стихотворением, а с тем, что я учился в немецкой школе, всю жизнь прожил в Германии и познакомился с Тютчевым очень поздно. Друзья говорили, что это обязательная школьная программа, и я думаю, что большинство его лучше знает, чем я. Я впервые прочитал Тютчева, когда мне было 20 или 21 год. Это было стихотворение «Море и утес», и оно меня поразило своей какой-то стихийностью. А потом я прочитал несколько других стихотворений, наткнулся на «Силентиум», и это стихотворение меня очень тогда оттолкнуло. Я его совершенно не понял, мне показалось, что оно поэтически бедное, я не видел, что в нем особенного. Мне показалось, что оно основано на каком-то философском заблуждении, будто есть этот особенный мир вне высказывания, о котором можно молчать, и все равно он будет существовать. И сейчас я очень благодарен за то, что было сказано и вообще за семинар, за возможность перечитать это стихотворение.
Никто об этом не сказал, но мне кажется, что есть разница между первыми двумя строфами: «Молчи, скрывайся и таи» — три слова полноценных, а во второй строфе — четыре слова, и это повторяется тоже несколько раз. Я думаю, что эти строфы очень разные, и в этом тоже есть особая музыкальность. Я занимаюсь иногда переводом поэзии, и мне совершенно непонятно, как перевести это стихотворение.
Марк Тальберг-Жуков: У меня та же ситуация, что и у Вениамина: я никогда не жил в России, не учился в российской школе, так что мне, в общем-то, это стихотворение было неизвестно до того момента, когда Роман Григорьевич его прислал неделю назад, чтобы я ознакомился. Так что у меня совершенно, может быть, странные ассоциации возникают. Но что бросилось в глаза, так это в первой строфе: «Пускай в душевной глубине / Встают и заходят оне / Безмолвно, как звезды в ночи» — вот этот образ душевной глубины и звезд в ночи. Мне это напомнило высказывание Иммануила Канта про «звездное небо надо мной и моральный закон во мне», но тут оно немного инвертируется, то есть тут и звезды во мне, и...
Андрей Немзер: И нравственного закона нет.
Александр Журбин: Вы знаете, в музыке всегда должна быть какая-то бравурная, торжественная кода. Поэтому я скажу буквально несколько слов, но это будут не мои слова, а Тютчева. Вот смотрите: «Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать», «Мысль изреченная есть ложь», «Молчи, скрывайся и таи», «Люблю грозу в начале мая», «Тебя, как первую любовь», «Душа моя, Элизиум теней», «Есть в осени первоначальной...» и, наконец, «Еще в полях белеет снег» и «Я встретил вас» — таким количеством хитовых строк может похвастаться только один человек, Александр Сергеевич Пушкин. И после него сразу идет Тютчев. Все, кто говорит по-русски, признают это сразу.
Андрей Немзер: «Уж не пора ль, перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде?»
Роман Лейбов: Нет, ну это все-таки такой локальный хит.
Илья Виницкий: Реплика Александру Журбину: концепция классической поэзии XVIII века, которую Тютчев действительно унаследовал, заключалась в том, что хорошо бы, чтобы после нашей смерти какая-нибудь пара строк осталась. И риторическая установка на то, что «да хоть гори все синим огнем и пропади пропадом, но чтобы остался хоть стих какой-то», — у Пушкина это тоже нашло отражение, хотя уже другая была эпоха. И этот центон, который вы составили, очень хорошо показывает, что это больше, чем одна строчка, это делает его сильным поэтом. Сильное стихотворение сильно именно потому, что от него остается хотя бы один стих. А все, что вокруг, — ну, что делать, «вечности жерлом пожрется». И это тоже пожрется, но уже не на нашем веку.