1. Первым делом, конечно, про Дилана. Ясно, что тексты на эту тему будут появляться в течение следующей недели; пока понятно, что Нобелевский комитет решил радикально обновить горизонт, и в его кругозоре теперь жанры, которые раньше считались «неакадемичными» (вспомним прошлогоднее лауреатство Алексиевич), и авторы, чьи нобелевские перспективы даже у их горячих поклонников вызывали сомнение (несколько недель назад уже приходилось цитировать здесь текст Джеффри Хаймса, который считал, что «достоин, но никогда не получит»). Общекультурная значимость Боба Дилана не вызывает сомнений, а вот его вписанность в поэтический канон, в том числе американский (при наличии здравствующих Джона Эшбери, Майкла Палмера, Рона Силлимана) — вызывает еще какие. Итак, Нобелевская премия пытается избавиться от репутации «канонизирующей» и, следовательно, архаичной институции. Даром что лауреату 75 лет — но тут работает эффект, благодаря которому рок-н-ролл все еще воспринимается как новое искусство, и это при том, что как поэт Дилан куда традиционнее, чем, к примеру, давно покойные Э.Э. Каммингс или Чарльз Олсон.
Как бы то ни было, после 2016 года шансы появляются не только у рокеров (среди которых есть поэты не слабее Дилана — хоть бы Пол Саймон), но и у рэперов: почему бы и нет теперь? В русском литературном фейсбуке несколько человек независимо друг от друга уже написали, что Нобелевская премия повторила — понятно, с поправкой на масштаб — фокус премии «Поэт», которая несколько лет назад наградила Юлия Кима и вызвала малопонятный для посторонних, но очень логичный для «прошаренных» скандал. Так что в течение ближайшего времени мы будем читать статьи о том, почему Дилан — поэт и почему он не поэт.
Несколько больших внятных текстов все же появилось и в день объявления лауреата. На Lithub Лиза Леви вспоминает историю многолетних споров о том, кто же такой Дилан, — поэт или шоумен: «„Я Боб Дилан только тогда, когда приходится им быть”, — сказал Боб Дилан на пресс-конференции в 1986 году. Это примечательное заявление — хотя бы потому, что он был Бобом Диланом 45 лет, с его девятнадцати. Пресс-конференция, видимо, была одним из тех случаев, когда он „надевал маску Боба Дилана” — знаменитая фраза, которую он обратил к публике… в 1964 году. Когда журналист спросил его, кем же он бывает все остальное время, Дилан вздохнул и просто ответил: „самим собой”. А что это за человек — загадка, над которой бились многие биографы и прочие люди, но никто не решил ее удовлетворительно».
На сайте The New Republic недовольный колумнист Рю Спэт высказывается в том духе, что если Нобелевский комитет так хотел оказать честь музыканту, пусть бы и создавал новую премию по музыке: «Что бы ни думать о состоятельности Дилана как мастера слова и поэта, нельзя отрицать, что эмоции в его творчестве по большей части навевает музыка, а не язык. Его единственное большое литературное достижение — книгу мемуаров „Хроники” — Шведская академия даже не упомянула». Спэт, впрочем, умудрился в этом же тексте назвать позорным фарсом награждение Дарио Фо — в тот самый день, когда Фо скончался.
Успел написать поздравительный текст главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник, только что бравший у Дилана комментарий для отличной статьи о другом легендарном американском певце — Леонарде Коэне. Вот что Ремник пишет о Дилане: «Пожалуйста, давайте не будем изводить сами себя заклинаниями о жанрах и священном понятии литературы, чтобы оправдать выбор Дилана: не нужно напоминать, что он, да, писал книги, настоящие (дикий, не поддающийся определениям „Тарантул”, превосходные воспоминания „Хроники: Том 1”). Здесь важны песни, громадное, до сих пор пополняющееся собрание, и словарь Дилана, его первоочередное влияние, — это и есть история песни: от греков до псалмопевцев, от елизаветинцев до разнообразных традиций Соединенных Штатов и других стран. Блюз; хиллбилли; Великий американский песенник Берлина, Гершвина и Портера; фолк; ранний рок-н-ролл. Все эти годы Дилан занимался духовным поиском, в его вещах отражены и его хорошо известные экскурсы в различные религиозные традиции, от евангельского христианства до Хабада, но в основе его творчества — песня, слова, соединенные с музыкой, и Нобелевский комитет с полным правом отмел соображения о том, что эта традиция не литературна. Сапфо и Гомер бы с этим согласились».
Оценила событие и музыкальная пресса. Роб Шеффилд из Rolling Stone считает, что Дилан, подобно Шекспиру, «воспользовался той свободой, которую предоставляет сомнительный формат»: во времена Шекспира таковым считался театр, а во время дебюта Дилана — рок-музыка.
Ну и, наконец, подборка твитов на сайте Huffington Post. Три самых лучших, по-моему: «Шведская академия не перестает троллить Филипа Рота» (Алекс Шепард); «*выбрасывает пластинку Дилана из окна маленькой, но удобной токийской квартиры. открывает маленькую бутылку пива* ничего. со мной все хорошо» (Герой Мураками); «Отлично понимаю Нобелевский комитет. Читать книги — это трудно» (Гари Штейнгарт).
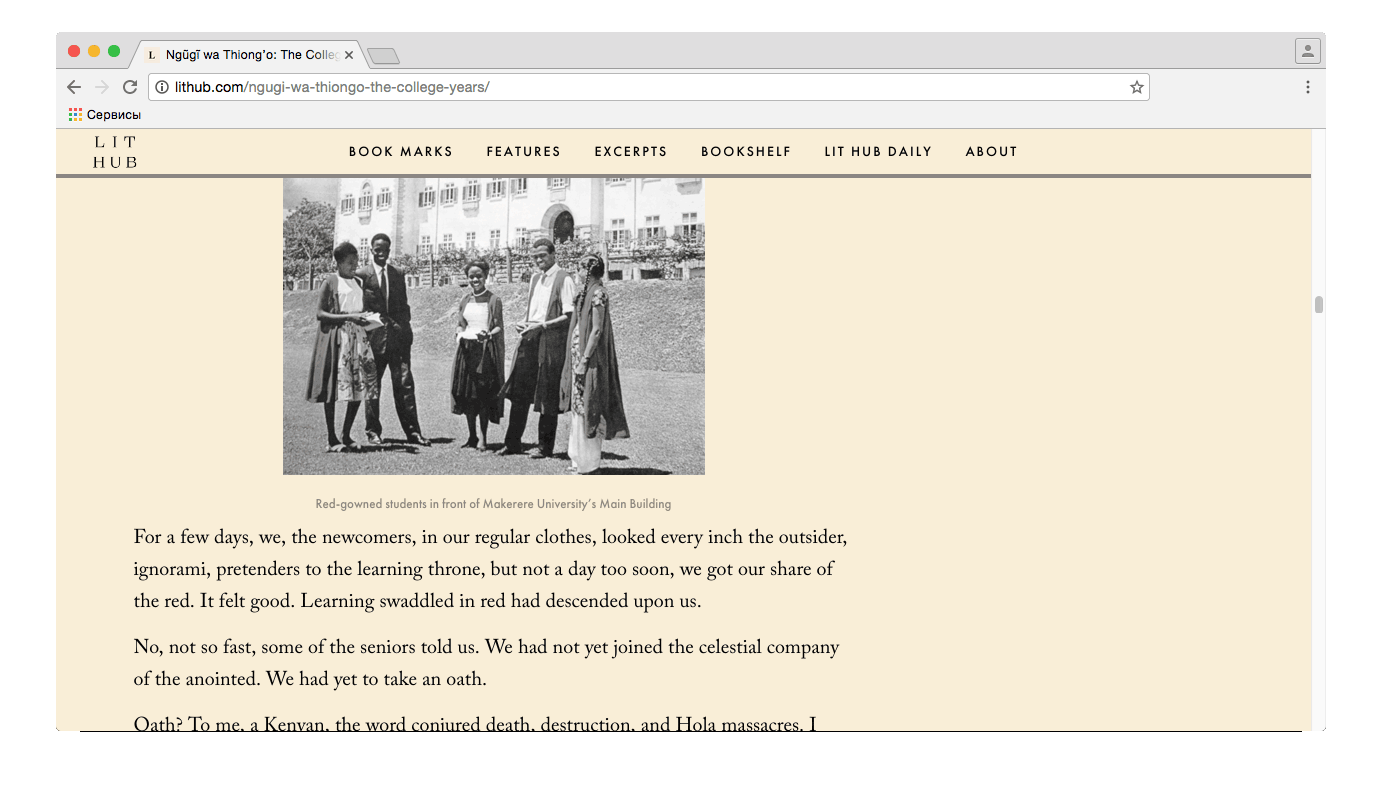
2. Накануне объявления Нобелевскую премию прочили Нгуги Ва Тхионго, и сайт Lithub по такому случаю вывесил отрывок из его воспоминаний. Отрывок — об учебе в Университете Макерере (Уганда), и читать его очень интересно. Вот, например, о чувствах молодого человека, который едет по железной дороге: «И тут я понимаю. Благодаря этой самой железной дороге эти богатые, многообразные земли дали пристанище поселениям белых. Станции и города, мимо которых мы ехали, от Лимуру, Накуру и Элдорета до городков на границе Кении и Уганды, были построены в одно время с железнодорожной веткой, которую прокладывали с 1899 по 1903 годы. Сторонники и противники железной дороги проливали здесь кровь. Восстание нанди под предводительством Койталеля против железной дороги и его подавление силами колониальных войск были предвестниками нынешней вооруженной борьбы Армии земли и свободы, в которой принимали участие мой брат Добрый Уоллес и дядя Гичини Нгуги. Простиравшиеся вокруг холмы и поля кофе и пшеницы — порождения железной дороги — говорили о присутствии белых, но они же красноречиво свидетельствовали об африканской потере. Меня вспаивала история, которая мою историю отрицала». А вот о любимом преподавателе в заведении, которое, в общем-то, страдало косностью: «Последовательнее других поощрял различие взглядов курильщик трубки Питер Дэйн. Еще запомнилось, как пристально он разбирал с нами тексты. Когда мы читали „Большие надежды”, он сделал так, что персонажи, особенно Мэгвич, предстали перед нами как живые. Австралия была колонией для преступников, куда ссылали на веки вечные тех, кого не желали видеть в Англии. Если бы они решились вернуться в Альбион, их ждал бы арест, суд и тюрьма. То, как Дэйн обрисовывал старание Мэгвича сделать из Пипа джентльмена и его стремление вернуться, чтобы хотя бы исподтишка насладиться видом своего творения, нас трогало: Дэйн, специально того не объясняя, заставил нас смотреть на роман в контексте классового отчуждения и империализма. Он приблизил Диккенса к нам. Колония и Корона, тюрьма и дворец — одно порождало другое. „Большие надежды” стали нашей любимой книгой, и наша компания взяла себе общее имя Пип».
3. Дмитрий Воденников написал страстную апологию Миледи и заклеймил мушкетеров Дюма как подлых убийц, насильников и подонков. «Вот об этом и кричит леди Винтер. О том, что она французская Настасья Филипповна. О том, что ей страшно, стыдно и холодно стоять своими босыми ногами на глинистой французской земле. Что она сейчас умрет. И о том, что за всю ее жизнь так и не нашлось у нее ни одного князя Мышкина. Одни Рогожины кругом». Вообще цитировать — портить, прочитайте сами. Тексты в таком жанре всегда привлекательны (не забуду длинного эссе Василия Щепетнева, доказывавшего, что злодей в «Собаке Баскервилей» — доктор Мортимер), а тут еще и слог Воденникова.
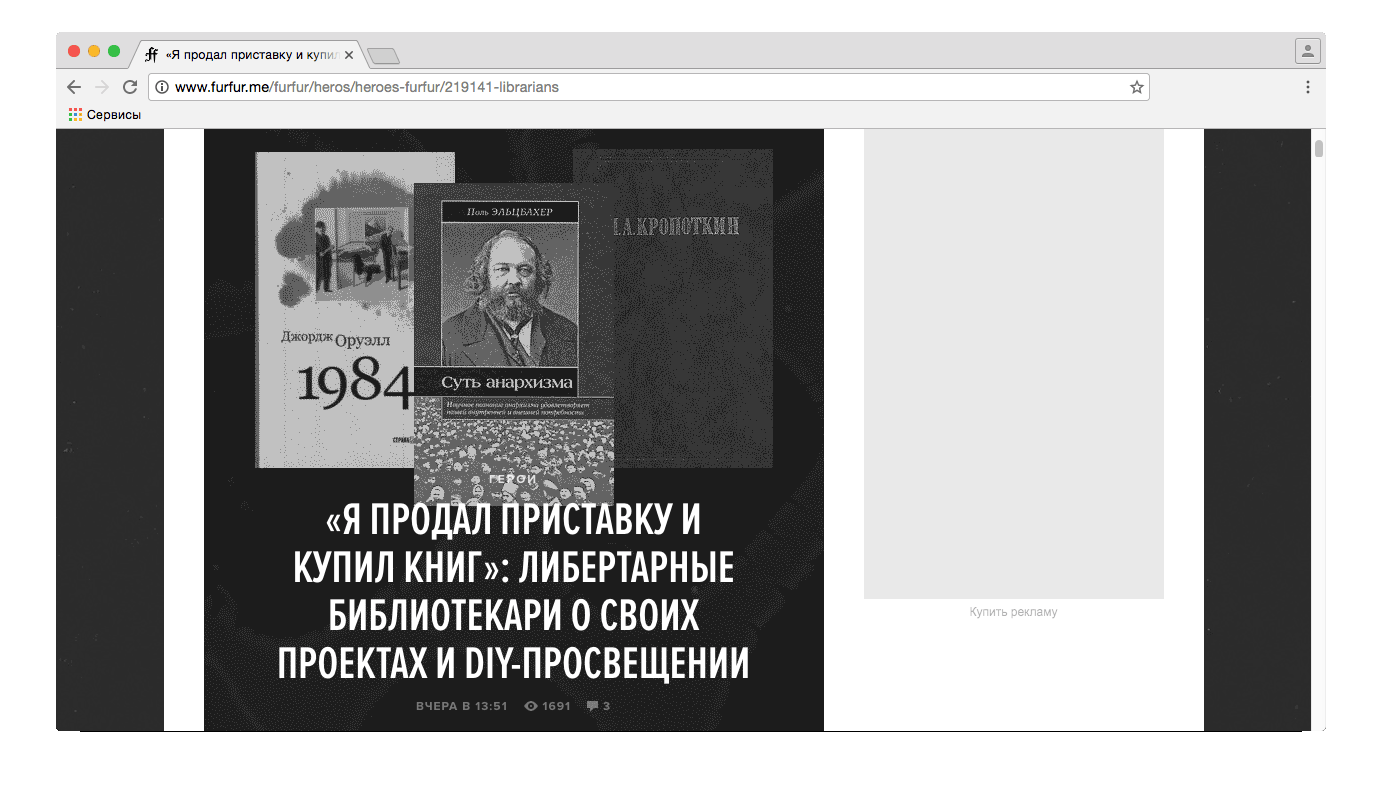
4. На Furfur отличный материал о людях, которые бросили все и принялись делать открытые народные библиотеки в своих городах — Мурманске, Москве, Петербурге, Казани, Минске. Впечатляют и их списки рекомендованной литературы (почти сплошь книги по теории анархизма), и рассказы о том, как создавались библиотеки и какой на них обнаружился спрос. Вот человек из Московской открытой библиотеки: «Считаю, что абсолютно любые знания должны быть доступны. Мимо нас как-то проходил знаменитый „Майн кампф” Гитлера. Эту книгу левые активисты пытались публично сжечь, порвать, уничтожить. А я постоянно спрашивал: „А чем вы тогда лучше того самого Гитлера, если собираетесь книгу жечь?” Нет, я считаю, что знания должны быть общедоступными. Но мы специализируемся на левой литературе и, конечно, сотрудничать с какими-нибудь правыми аналогичными инициативами не будем — здесь уже идет речь об идеологических разногласиях».
5. На «Кольте» Ольга Балла пишет об одной из двух недавно вышедших книг поэта Сергея Соловьева, особенно отмечая то, как он работает с темой телесности; по мнению критика, у консервативно настроенных читателей совмещение эротических образов с религиозными может вызвать отторжение: «Ох, нет, это — затворник и Палама в одном ряду с раздвиганием коленей — пожалуй, все-таки чересчур». Как пишет Балла, «Все, имеющее отношение к любви и телесному взаимодействию между мужчиной и женщиной, для Соловьева по определению высоко, сакрально, мистично. И оттого страшно: ставит человека на самый его предел, выводит его за пределы».
6. Максим Немцов — вокруг его перевода Пинчона, а заодно и Сэлинджера и Керуака недавно было сломано много копий — составил для «Теорий и практик» путеводитель по главным американским прозаикам XX века. Не только очевидные Берроуз, Хеллер и Воннегут, но и Бротиган (которого Немцов много переводил), и Джон Хоукс, и Томас Макгуэйн («Его классический текст — роман дороги „Шандарахнутое пианино”»), и Кэти Экер, и Ишмаил Рид. Вот, например, что Немцов пишет о последнем: «Самый сатиричный из всех американских постмодернистов. Знаменит не только как писатель, но и в значительной степени как поэт и автор текстов песен для многих артистов (в этом смысле формировался под влиянием битников и Гарлемского ренессанса). Кроме того, Рид — исследователь афроамериканской истории, автор термина „нарратив неорабства”. Его работы ставят под вопрос многие явления современной американской политики и культуры. Для первого знакомства можно прочесть роман „Мумбо-Юмбо” — как обычное произведение этого жанра или же отнестись к нему как к духовному артефакту и устроить для него на своей книжной полке маленький алтарь».
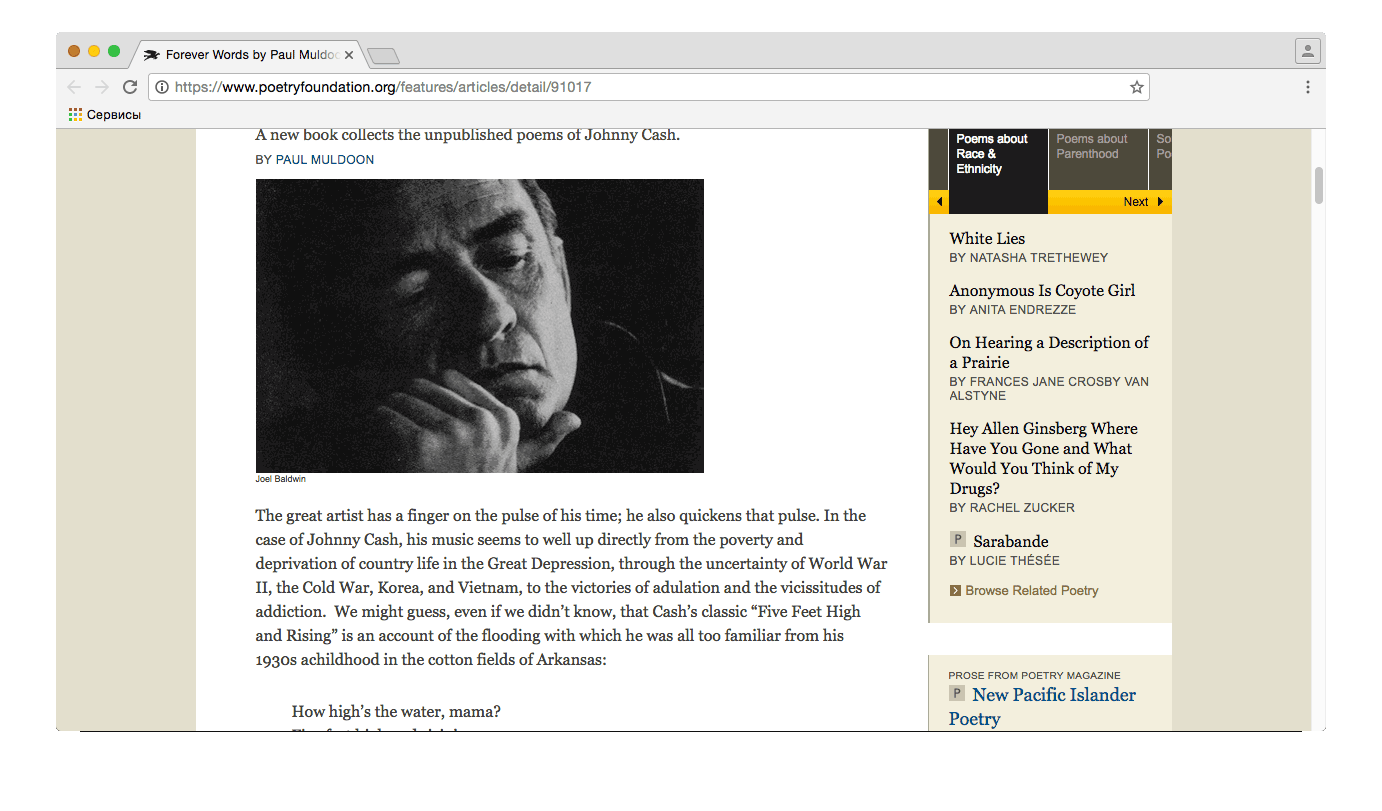
7. Параллель к дилановскому сюжету. На сайте журнала Poetry Пол Малдун — поэт, в последние годы фигурирующий в букмекерских нобелевских списках, — рассуждает о свежевышедшей книге стихов Джонни Кэша. «Великие произведения искусства, помимо ощущения, что они работают внутри времени, несут глубокое чувство безвременности. В них есть ощущение бессмертия и неизбежности, которое предполагает, что 1) они всегда существовали и 2) что они всегда должны были существовать в этой и только в этой форме».
8. На Lithub македонская поэтесса и писательница Лидия Димковская, о которой Википедия сообщает, что она «в значительной мере повлияла на нормы литературного македонского языка рубежа ХХ–ХХI веков», рассказывает о том, какое воздействие югославские войны 1990-х оказали на литературу региона. Ее эссе начинается с воспоминания о том, как в ее детстве и юности Югославия ощущалась единой, и было невозможно предугадать кошмар, который здесь вскоре начнется. «Мы по-прежнему ощущаем последствия всего, что случилось во время Югославских войн, — пишет Димковская. — Например, я помню, что в Скопье… однажды проходила презентация книги молодого поэта, который в это время как раз служил в югославской армии. По телевизору мы увидели, что хорваты захватили его воинскую часть, и у него и его однополчан не было ни еды, ни воды. Вернувшись в Македонию с войны, он сделался монахом. А другой, вернувшийся с югославских полей сражения, стал большим поэтом». Сегодня ситуация изменилась. Эмигрировавшие из Югославии писатели разных балканских наций общаются друг с другом, встречаются, выпивают в барах, переводят друг друга на свои языки. Но Димковская не может забыть того чувства, которое преследовало ее в 1990-е, когда она училась в Страсбурге: «Боснийцы не хотели с нами разговаривать. Они были так злы, что мне было стыдно, что я — из Македонии, которую тогда называли оазисом мира. Как-то раз одна боснийка сказала мне: „Представь, что ты студентка, твоя студенческая учетная карточка сгорела в Национальной библиотеке в Сараеве, вместе со всеми нашими важными документами, всеми нашими книгами. У тебя забрали твою личную и национальную идентичность. Ты — никто и ничто, а вокруг тебя гибнут люди”». Не нужно даже говорить, насколько это знакомо звучит.
9. Американский поэт и переводчик Дэвид Шук побывал в Никарагуа, чтобы узнать больше о Хоакине Пасосе — поэте, которого никарагуанцы считают одним из величайших, но который за пределами Латинской Америки практически не известен. В этом году Пасосу исполнилось бы 100 лет, а умер он в 32 года, не увидев ни одной своей книги напечатанной. Шук встретился с сыном Пасоса, который не знал отца, но чтит его память — пусть даже первое издание его стихов у сына пропало во время землетрясения 1972 года. «В поэзии Пасоса поражает разброс тем: исследования коренного населения Центральной Америке (делающие тебя лучшим человеком), эротические разговоры Марии и Иосифа, откровенно политические стихи, в основном с марксистским уклоном. Он часто прибегал к рифме, как концевой, так и внутренней, и многие его вещи, особенно короткие, очень мелодичны и полны просторечия детских стишков». Среди текстов, которые цитирует Шук, строфа из «Гимна для войны предметов»:
Когда состаришься, научишься уважать камни,
если состаришься,
если останутся камни.
