Краткий путеводитель по полицейскому насилию в афроамериканской литературе
Копы, палящие из пистолетов, расовые войны и долгий путь от рабства к свободе
Мститель Чарльза Чесната
 Чарльз Чеснат
Чарльз Чеснат
Гибель чернокожего мужчины от рук белого полицейского — важный топос афроамериканской литературы ХХ века, общее место, которое встречается далеко не только у классиков, писателей масштаба Ричарда Райта, Ральфа Эллисона, Джеймса Болдуина, но и практически повсеместно в произведениях черных авторов. Одним из самых первых текстов, маркирующих появление этого топоса, стал рассказ Чарльза Уоддела Чесната (1858–1932) «Дети шерифа». Он вошел в сборник чеснатовской короткой прозы «Жена его юности и другие истории о расовом барьере» (1899). Светлокожий окторонВ соответствии с принципом правовой и социальной классификации населения, принятой в ряде штатов США в начале ХХ в., так назывался человек, на восьмую часть относящийся к негритянской расе, сын белой женщины и квартерона. — Прим. ред., процветающий юрист Чарльз Чеснат легко мог бы пересечь расовый барьер и стать для всех окружающих белым. То, что он предпочел остаться цветным, было его личным, осознанным выбором. Неудивительно, что его всю жизнь не переставали волновать такие вопросы, как расовый барьер, статус полукровок и, конечно, зашкаливающий градус насилия в межрасовых отношениях на рубеже XIX-XX веков.
Действие рассказа «Дети шерифа» происходит в Северной Каролине. Шериф Кэмпбелл отбивает у толпы мулата Тома, над которым собираются устроить самосуд как над убийцей почтенного горожанина, ветерана войны. Арестовав предполагаемого преступника (чтобы все было по закону!), шериф выходит к воротам тюрьмы, где собралась толпа разъяренных линчевателей. Пока он урезонивает их, Том вытаскивает у него пистолет. Когда блюститель порядка и арестованный остаются наедине, Том наводит оружие на шерифа, требуя, чтобы тот выпустил его из тюрьмы и дал скрыться. В ходе разговора оказывается, что Том — незаконный сын Кэмпбелла, которого тот некогда продал, чтобы покрыть семейные долги. Том отказывается признать его отцом («Разве ты выполнял свой отцовский долг? Разве ты дал мне свое имя? Разве ты защищал меня? Другие белые отцы давали цветным детям свободу и деньги и отправляли в свободные штаты. А ты продал меня на рисовые плантации!») и объявляет: «Твоя жизнь в обмен на мою. Только это спасет меня. Ты должен умереть». Но нажать на курок он не успевает: другой выстрел раздается раньше — в Тома стреляет его сводная сестра, законная дочь шерифа, которая, опасаясь за отца, тайком пробирается в тюрьму, прихватив из дома запасной пистолет...
Эта необычная коллизия с кровавой развязкой ярко иллюстрирует генезис топоса: он складывается, когда позади остаются рабство и вспыхнувшая после окончания Реконструкции Юга первая расовая война — череда погромов и линчеваний, закончившаяся на рубеже 1900–1910-х достижением сомнительного «перемирия» — утверждением системы сегрегации («джимкроуизм»). Таким образом выстраивается линия преемственности — исторически обусловленная динамика литературного образа насилия, виолентности (violence), которому подвергалась в Штатах черная раса. На смену порке и пыткам времен рабства приходят погромы и бессудные казни, а затем — издевательства, побои и убийства во время ареста, в тюрьмах и на допросах. На смену жестокому плантатору и надсмотрщику с хлыстом приходит линчеватель с петлей и ножом, а затем — белый полицейский с пистолетом, защищающий под видом правопорядка репрессивную систему, обеспечивающую господство белой расы и подчиненное, зависимое положение расы черной.
«Невидимка» Ричарда Райта
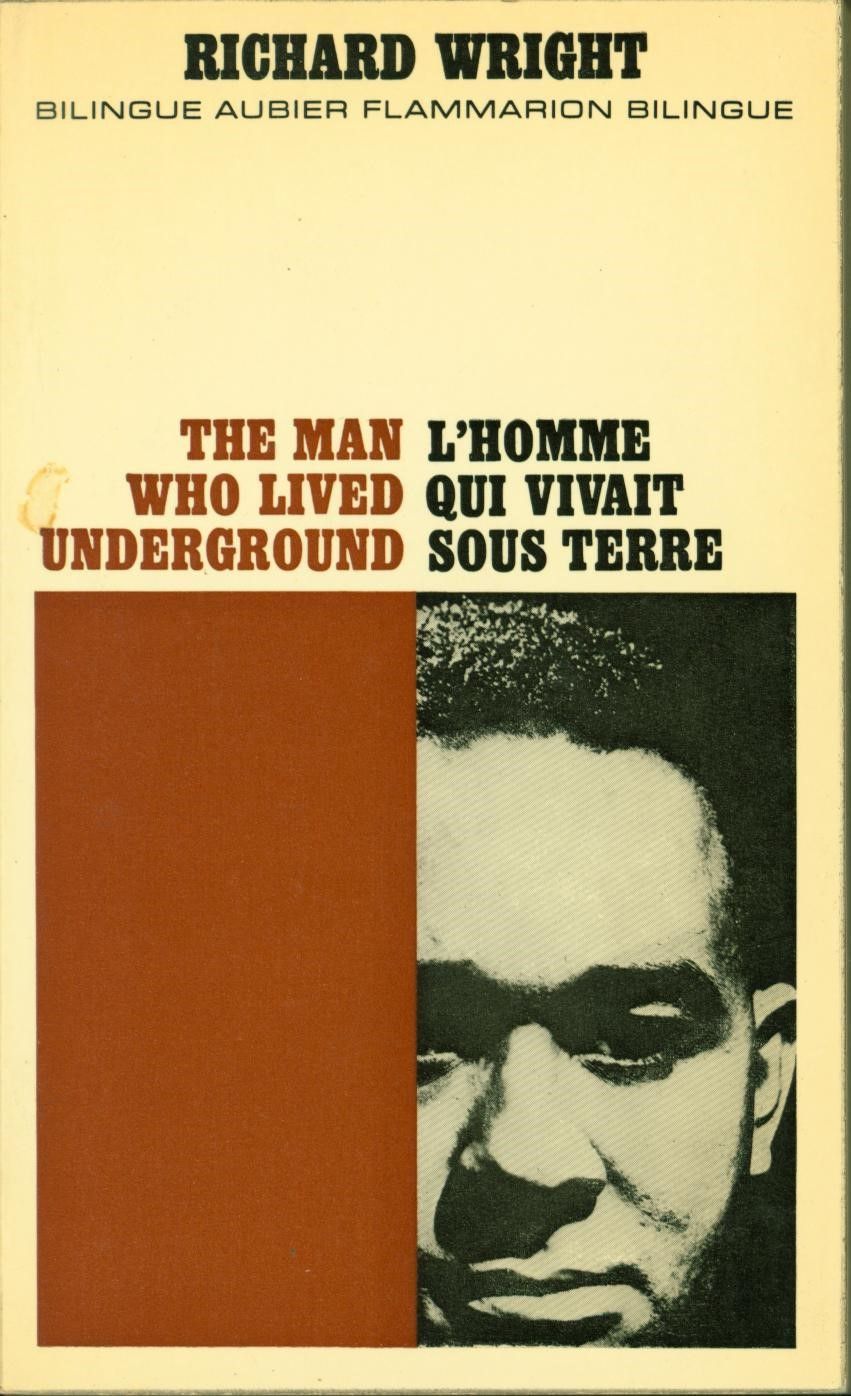
К насилию часто присоединяется проблема «невидимости», важная не только для литературы о расовых конфликтах. Чернокожий Фред Дэниелс, герой повести Ричарда Райта «Человек, который жил под землей» (1944), оказывается в «подполье», спасаясь от полицейских в канализации. В письме от 13 декабря 1941 г. Райт попросил своего агента Пола Рейнолдса ознакомиться с новой рукописью, заметив, что это произведение — его первая попытка подняться в творчестве над расовым вопросом, и ценность будущей повести должна заключаться в ее «универсальном послании». Райт рассматривал историю о подземном обитателе как метафору «удела человеческого», а не только и не столько положения черных, вытесненных на дно американского общества.
В первом варианте повесть начиналась с ареста Фреда Дэниелса, предъявления ему обвинения в убийстве белой женщины, жестокого ночного допроса в полиции, в результате которого к утру ни в чем не повинный Фред вынужден был подписать «признание». Затем его под конвоем привели домой для «следственного эксперимента на месте преступления», во время которого Фред выпрыгнул в окно, бежал от полиции и скрылся в открытом канализационном люке. Однако когда в 1944 году известный левый издатель Эдвин Сивер взял повесть Райта в апрельский выпуск своей антологии «Cross Section», ее сократили почти на треть, чтобы сделать чтение занимательней. В результате вся эта предыстория была «отрезана», и начало повести оказалось загадочным — Фред бредет в подземелье по канализационным сточным водам и обнаруживает там жутковатые находки (трупик ребенка и т. д.). Читателю тем самым предоставили постепенно реконструировать произошедшее с героем. Райт не возражал против такого «усечения», так как начало повести, в котором описывалась жестокость полицейских по отношению к негру-подозреваемому, возвращало историю в русло расовой проблематики, от которой Райт рассчитывал уйти.
Этот «усеченный» вариант и стал каноническим. Тем не менее критика сразу же стала интерпретировать повесть именно в «черно-белых тонах», увидев в ней пугающую картину того, как расовый гнет загоняет психику негра в подполье. Это неудивительно: хотя начало было отрезано, сохранился финал, в котором Дэниелс, измученный одиночеством, оказавшийся на грани безумия, в шаге от утраты памяти и личности, выходит из укрытия и сдается полицейским. К тому моменту настоящий убийца уже найден, и стражи порядка поначалу предлагают Фреду убираться подобру-поздорову, затем потешаются над его «байками» о жизни в канализации. Однако когда оказывается, что все рассказанное — правда, и Дэниелс начинает спускаться в люк, чтобы провести всех в свое подземное убежище, полицейский Лоусон стреляет в него.
«Оглушительно грохнул выстрел, и огненная струя прошила ему грудь. Его швырнуло спиной в воду. Он с недоумением глядел на расплывчатые белые лица вверху. Меня застрелили, сказал он себе... Издалека, издалека донеслись глухие голоса.
— За что ты застрелил его, Лоусон?
— Так надо.
— Почему?
— Таких надо стрелять. Они все портят.
И словно в глубоком сне он услышал металлический лязг; они закрыли люк... и густая, горькая вода хлынула ему в рот. Поток повернул его. Он вздохнул и закрыл глаза — и помчало, закружило, замотало ненужную вещь, пропавшую в недрах земли».
(Пер. Виктора Голышева)
 «Черный принц» Ральфа Эллисона
«Черный принц» Ральфа Эллисона
Конечно, в афроамериканской литературе негры далеко не всегда изображаются слабыми, запуганными людьми, готовыми лишь на пассивный протест. Так, чернокожий активист Тод Клифтон из знаменитого романа Ральфа Эллисона «Невидимка» (1952), написанного от лица анонимного рассказчика, впервые появляется на собрании Братства — левой организации, подозрительно напоминающей компартию США. Клифтон предстает перед читателем как «черный принц», как воплощение красоты и гордости черной расы:
«Все обернулись; я услышал восхищенный вздох какой-то женщины. Вновь прибывший шел по проходу легкой, танцующей негритянской походкой, а когда, дойдя до середины зала, вышел из тени на свет, я заметил, что он очень красив и очень черен. У него были четкие правильные черты лица, словно выгравированные на черном мраморе — как у некоторых статуй в музеях Новой Англии. Такие лица можно порой увидеть и в южных городках, где до сих пор белые потомки богатых семей и черные отпрыски их негритянской прислуги носят одни и те же имена и похожи и обликом, и характером, словно две пули, вылетевшие из одной двустволки. Вошедший пересек зал и непринужденно сел, положив на стол сильные мускулистые руки. Я видел крепкие костяшки его пальцев, выпуклую грудь под свитером, легонько пульсирующую жилку на шее, гладкий квадратный подбородок и белый наклеенный крест-накрест пластырь на бархатно-черной коже, нежно обтягивающей гранитно-твердые афро-англо-саксонские скулы».
Однако логика центрального топоса почти всех произведений черных авторов этого времени неумолима — 20-я глава романа завершается сценой ареста и убийства Клифтона белым полицейским:
«Коп, важный и солидный в своей черной форменной рубашке, рукой, прямой, как винтовочный ствол, опять толкнул Клифтона — тот споткнулся и с трудом устоял на ногах, опять отрывисто бросил что-то через плечо, и оба продолжали маршировать по улице — такие сцены мне доводилось видеть много раз, и их участником мог оказаться кто угодно, но только не Клифтон. Я увидел, как коп, выкрикнув какую-то команду, сделал резкий выпад и выбросил вперед руку, но промахнулся и потерял равновесие, а Клифтон, словно танцор, выполняющий пируэт, повернулся к копу и занес над головой согнутую правую руку; корпус его слегка качнулся вперед и влево...и он, выдвинув вперед правую ногу, слева нанес копу мощный апперкот, так что у того слетела фуражка и подкосились ноги, он рухнул на землю и покатился кубарем... В промежутках между мелькающими машинами мне был виден коп, который полз по тротуару, опираясь на локти и мотая головой, словно пьяный. Я стоял, ощущая, как вибрирует под ногами асфальт от проносящихся под землей вагонов метро, и вдруг унылый ровный гул автомобильных моторов прорезали торопливые выстрелы, а испуганные голуби бешено взметнулись вверх. В следующее мгновение коп, уже распрямившийся, сидел на асфальте, потом попытался встать, неотрывно глядя на Клифтона, голуби, успокоившись, расселись по деревьям, а Клифтон, все еще стоя лицом к полицейскому, вдруг как-то разом обмяк и упал на колени, словно собрался помолиться...»
(Пер. Ольги Пановой)
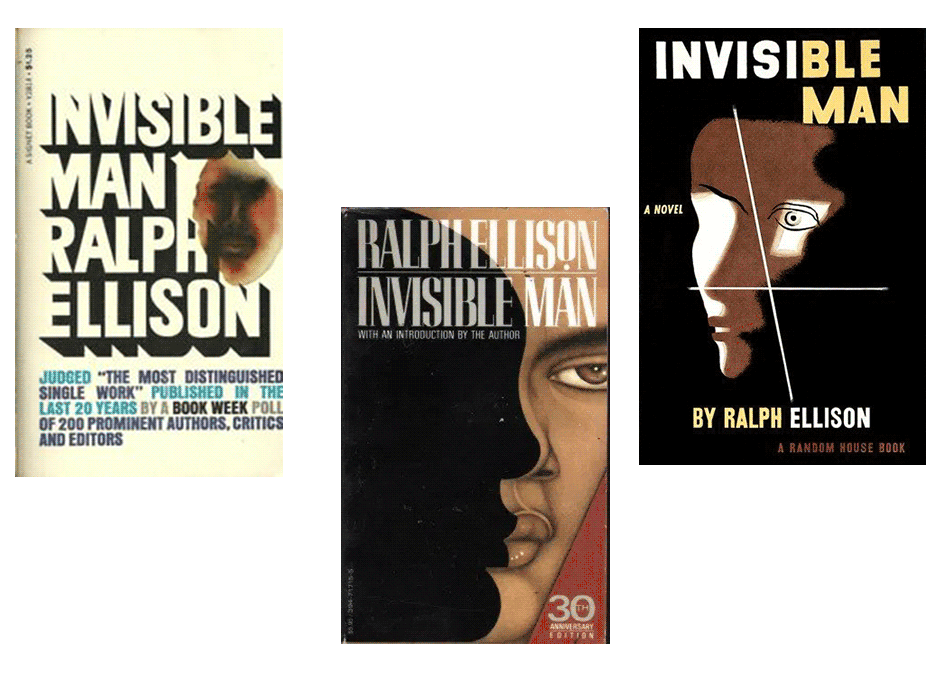 После убийства Клифтона на его похоронах в Гарлеме массовая траурная процессия не выливается в массовые беспорядки — дело ограничивается шествием на кладбище и пением старинного гимна. Расовый бунт, впрочем, все же вскоре произойдет — в последних главах романа перед читателем предстает Гарлем, охваченный пожарами, залитый кровью, с разбитыми витринами, развороченными мостовыми. В основе этих сцен — реальное событие, расовые волнения в Гарлеме во время Великой депрессии 19 марта 1935 г.: погромы, сотни раненых и трое погибших. Поводом в тот раз стало избиение чернокожего подростка, совершившего кражу в магазине. В романе Эллисона именно во время этого бунта рассказчик, спасаясь от насилия, окажется в подвале какого-то дома и превратится в «невидимку»: в своей теплой и ярко освещенной подземной «норе» он будет слушать Луи Армстронга, грезить, вспоминать тот путь, который привел его в подполье, размышлять и готовиться к возрождению / перерождению и возвращению в мир людей — подобно тому, как бабочка после гибернации выходит из кокона.
После убийства Клифтона на его похоронах в Гарлеме массовая траурная процессия не выливается в массовые беспорядки — дело ограничивается шествием на кладбище и пением старинного гимна. Расовый бунт, впрочем, все же вскоре произойдет — в последних главах романа перед читателем предстает Гарлем, охваченный пожарами, залитый кровью, с разбитыми витринами, развороченными мостовыми. В основе этих сцен — реальное событие, расовые волнения в Гарлеме во время Великой депрессии 19 марта 1935 г.: погромы, сотни раненых и трое погибших. Поводом в тот раз стало избиение чернокожего подростка, совершившего кражу в магазине. В романе Эллисона именно во время этого бунта рассказчик, спасаясь от насилия, окажется в подвале какого-то дома и превратится в «невидимку»: в своей теплой и ярко освещенной подземной «норе» он будет слушать Луи Армстронга, грезить, вспоминать тот путь, который привел его в подполье, размышлять и готовиться к возрождению / перерождению и возвращению в мир людей — подобно тому, как бабочка после гибернации выходит из кокона.
Коп, стреляющий в чернокожего из пистолета, — ядро топоса, квинтэссенция насилия. Но даже коп, который не вынимает оружия, а просто расхаживает по улицам черного гетто как оккупант по захваченной территории, в афроамериканской литературе стал символом, воплощающим комплекс разрушительных переживаний — страха, ненависти, чувства неполноценности, бесправия и бессилия, униженности и в конечном итоге потери лица, памяти, утраты личности, как у райтовского «подземного человека» или эллисоновского невидимки.
 «Улетевший из рабства» Тони Моррисон
«Улетевший из рабства» Тони Моррисон
Топос, который складывается в начале века, окончательно оформляется к двадцатым годам и проходит красной нитью через Гарлемский ренессанс и «роман протеста» красных тридцатых, через черный экзистенциализм 1940–1950-х и воинствующие шестидесятые. Он присутствует у Лэнгстона Хьюза и Клода Маккея, Ричарда Райта и Честера Хаймса, Ральфа Эллисона и Джеймса Болдуина, Лероя Джонса (Амири Барака) и Джона Оливера Килленза. Однако после второй расовой войны, разразившейся в «бурные шестидесятые», он снова трансформируется, подвергается удивительным метаморфозам — вместе со всей системой общих мест и архетипических мотивов, которые составляют «генетический код» афроамериканской литературной традиции.
В романе Тони Моррисон «Песнь Соломона» (1977) предок главного героя получает говорящую фамилию «Помер» (Dead) от солдата-янки из армии Союза, которая (вот парадокс!), казалось бы, должна была нести вчерашним черным рабам возрождение и новую жизнь. Архетипическое движение с Юга на Север — от рабства к свободе — в романе становится дорогой к духовной смерти: это отрыв от корней, от наследия предков, от крови и почвы, от единого организма черной общины; это смерть-в-жизни, призрачное существование в антимире северного мегаполиса, в зоне отчуждения, где происходит разрыв кровных и душевных связей, где значимы только антиценности — деньги и социальный престиж. Точно так же переворачивается и концепт насилия, узнаваемая топика виолентности. В финале романа Молочника, Мейкона Помера-младшего, пытается застрелить вовсе не белый коп, воплощение белого диктата и расизма, а друг и собрат по расе Гитара, член организации «Семь дней», которая объявила войну белому террору и в ответ на каждое убийство белым чернокожего убивает белого — не важно, виновного или невинного, старого или молодого. Гитара, застреливший тетку Молочника, мудрую чернокожую знахарку Пилат, оказывается лицом к лицу с героем — и Мейкону-Молочнику ничего не остается, кроме как вспомнить о том, что он потомок африканского мага-царя Соломона из племени «летающих негров», что его легендарный предок смог спастись от рабства, от унижения и смерти потому, что владел даром полета. Молочник раскидывает руки, раскрывая объятия своему брату-убийце, устремляется ему навстречу, прыгая с Соломонова утеса, и обретает крылья — символ духовного дара любви, милосердия, прощения, самопожертвования.
« — Гитара! — крикнул он. <...> — Эй, где ты, брат! Ты видишь меня? — Молочник приложил ко рту руку и замахал другой рукой над головой. — Я здесь! <...>
Припав к земле у самого края второй площадки, укрытый только лишь ночною тьмой, прижав к щеке ружейный ствол, Гитара улыбнулся. „Мой человек, — пробормотал он. — Главный мой человек”. Он положил ружье на землю и встал.
Молочник перестал махать рукой и прищурился. Голова и плечи Гитары еле виднелись в темноте.
— Тебе нужна моя жизнь? — Теперь он уже не кричал. — Она нужна тебе? Возьми! — Не вытерев слез, не вздохнув глубоко, даже не согнув колени, он прыгнул. Стремительный и яркий, как пересекающая небосклон звезда, он полетел к Гитаре, и несущественно было, чей дух попадет в смертоносные руки брата его. Ибо теперь он постиг то, что знал Соломон: надо лишь отдаться воздуху, и он тебя подхватит».
(Пер. Е. Коротковой)
 Лишь на первый взгляд удивительно, что полет Молочника выполнен у Моррисон в той же технике «замедленной киносъемки», что и предсмертный «танец» Клифтона или последнее плавание Фреда Дэниелса. Насильственная гибель в афроамериканской литературе — это кульминация, апогей, момент, когда кончается время и начинается вечность, точка, в которой сплетаются воедино смерть и освобождение. Эту трагическую истину открывает и та фольклорная афроамериканская сказка о Соломоне и его соплеменниках, «улетевших» из рабства, которую использовала Тони Моррисон; это так и у Чесната, и у Райта, и у Эллисона, ибо смерть — это последнее, страшное торжество, пиррова победа над унижением, страданием и насилием, это последнее, что нельзя отнять у тех, которые лишились всего в жизни, — потому что «all God’s chillun got wings» — «крылья даны всем детям Божьим».
Лишь на первый взгляд удивительно, что полет Молочника выполнен у Моррисон в той же технике «замедленной киносъемки», что и предсмертный «танец» Клифтона или последнее плавание Фреда Дэниелса. Насильственная гибель в афроамериканской литературе — это кульминация, апогей, момент, когда кончается время и начинается вечность, точка, в которой сплетаются воедино смерть и освобождение. Эту трагическую истину открывает и та фольклорная афроамериканская сказка о Соломоне и его соплеменниках, «улетевших» из рабства, которую использовала Тони Моррисон; это так и у Чесната, и у Райта, и у Эллисона, ибо смерть — это последнее, страшное торжество, пиррова победа над унижением, страданием и насилием, это последнее, что нельзя отнять у тех, которые лишились всего в жизни, — потому что «all God’s chillun got wings» — «крылья даны всем детям Божьим».