Ко мне льнут книги
Книжная полка Сергея Эйзенштейна
В Доме Мастера. Мир Сергея Эйзенштейна. Авт. -сост.: В. Румянцева-Клейман. М.: ООО ТД «Белый город», 2018
Сергей Эйзенштейн известен как режиссер, теоретик, педагог, наконец, как рисовальщик. И куда меньше — как читатель и библиофил. В мемуарных заметках он характерной рубленой строчкой записал:
«К некоторым святым слетаются птицы: в Ассизи.
К некоторым легендарным персонажам сбегаются звери: Орфей.
К старикам на площади Св. Марка в Венеции льнут голуби.
К Андроклу — пристал лев.
Ко мне льнут книги.
Ко мне они слетаются, сбегаются, пристают.
Я столько лет их люблю: большие и маленькие, толстые и тонкие, редкие издания и грошовые книжонки, визжащие суперобложками или задумчиво погруженные в солидную кожу, как в мягкие туфли».
Дальше написал и зачеркнул:
«Я могу воровать их. Вероятно, мог бы убить. Они это чувствуют».
Утвердив в качестве библиотеки одну из комнат полученной в середине тридцатых от киностудии «Мосфильм» собственной квартиры, он обнаруживает, что «шаг за шагом комната за комнатой начинают обвиваться книжным обручем». Стены, покрытые открытыми полками с книгами, превратились в его воображении в собственную черепную коробку, вынесенную наружу: «Токи движутся от клеточек серого вещества мозга через черепную коробку в стенки шкафов, сквозь стенки шкафов — в сердцевину книг».
Эти бумажные продолжения эйзенштейновского мозга впервые, вместе с другими предметами его быта, стали полноправной частью его биографии в книге Веры Румянцевой-Клейман «В Доме Мастера. Мир Сергея Эйзенштейна», выпущенной Музеем кино и издательством «Белый город».
Вот лишь несколько книг, которые оказались связаны с ключевыми событиями жизни и творчества Эйзенштейна.
1. Джеймс Джойс, «Улисс»
Издание: James Joyce, Ulysses. Paris, Shakespeare and Company, 1928
15 февраля 1928 г. Эйзенштейн записал в дневнике, что получил экземпляр «Улисса», этой «Библии нового кино». Экземпляр привезла Айви Литвинова, английская жена министра иностранных дел СССР. Через месяц Эйзенштейн был совершенно уверен, что «Улисс» просто незаменим для формальной стороны его нового проекта — киноверсии «Капитала» Карла Маркса, а в конце того же года даже задумал написать собственную автобиографию в сверхточной и детальной манере, в которой Джойс описывает Блума.
Еще год спустя, 30 ноября 1929 г., режиссер и писатель встретились в Париже по рекомендации издательницы «Улисса», владелицы знаменитого книжного магазина Shakespeare & Co Сильвии Бич. Почти слепой Джойс поставил Эйзенштейну пластинку с собственным чтением главы «Анна Ливия Плюрабель» из будущего романа «Поминки по Финнегану» и почти наощупь надписал для него экземпляр «Улисса»: «Джойс. Париж. 30.11.1929». В этом экземпляре Эйзенштейн даже не разрезал страницы.

Сергей Эйзенштейн читает «Улисса» под агавой
Фото: предоставлено Музеем Кино
Позже Джойс, когда-то в Ирландии служивший директором кинотеатра, заявил, что только два режиссера могли бы экранизировать его самый знаменитый роман: немец Вальтер Рутманн, автор документального «Берлина, симфонии большого города» и советский режиссер Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина».
В 1930 г. в Голливуде Эйзенштейн перечитывает «Улисса», решив перенести так потрясший его «внутренний монолог» в кино — в свою экранизацию другого современного романа, «Американской трагедии» Теодора Драйзера. В режиссерской разработке он написал: «Джойс — в литературе, [Юджин] О’Нил — в театре, мы — в кино».
Когда в 1934 году Карл Радек предпринял атаку на Джойса как формалиста, Эйзенштейн жаловался студентам, что вот уж теперь начатый перевод «Улиса» так и не будет закончен (и оказался прав). В то время, когда, по его словам, «в формалистов забривали, как в рекруты», Джойса он считал куда ближе к реализму, особенно его соцреалистическому изводу, чем было рекомендовано официально. Называть человека, занимающегося формой, формалистом, любил шутить Эйзенштейн, «так же непредусмотрительно поспешно, как называть людей, изучающих проявления сифилиса... „сифилитиками”».
2. Зигмунд Фрейд, «Одно раннее воспоминание Леонардо да Винчи»
Издание: Профессор З. Фрейд, «Леонардо да Винчи. Воспоминание детства». М.: Книгоиздательство «Прометей» Н. В. Михайлова, 1913
Русский перевод этой книги 1913 г. сначала заинтересовал Эйзенштейна не именем еще неизвестного ему автора (с «именем, заимствованным из „Нибелунгов”»), а портретом Леонардо да Винчи на обложке и его именем в заглавии. Юноша Эйзенштейн любил рисовать и давно интересовался фигурой да Винчи, с которым в будущем не шутя будет ассоциировать собственное положение в сфере нового искусства — кинематографа.
В мемуарных заметках Эйзенштейн описал, с полным осознанием «подсознательных» обертонов своих образов, первое знакомство с книгой Фрейда и «приобщение к психоанализу»:
« Даже точно помню когда и где. Почти что в первые дни официального создания Красной Армии (весна 1918 г.), застающие меня уже добровольцем в военном строительстве. В Гатчине. Стоя в вагоне на пути в субботнюю побывку домой. Как сейчас помню. Коридор вагона. Рюкзак на спине. Папаха — пахнущая псиной. И вставленная в нее четверть молока.
Даже точно помню когда и где. Почти что в первые дни официального создания Красной Армии (весна 1918 г.), застающие меня уже добровольцем в военном строительстве. В Гатчине. Стоя в вагоне на пути в субботнюю побывку домой. Как сейчас помню. Коридор вагона. Рюкзак на спине. Папаха — пахнущая псиной. И вставленная в нее четверть молока.
Дальше на площадке трамвая, в неистовой давке, я так поглощен книжонкой, что не замечаю, как давно раздавили мою четверть молока и сквозь собачий ворс папахи и хаки рюкзака капля за каплей сочится молоко».
Хотя позднее Эйзенштейн и считал зацикленность Фрейда на сексуальности (или, как он тяжеловесно переиначивал в юности, «лебеде») лишь самой начальной и скучной из стадий работы с подсознанием, или, в его терминологии, «первичным импульсным фондом», и больше ценил книги его учеников (особенно Отто Ранка и Ханса Закса), он все же предпочитал фрейдизм юнгианству.
Один из спутников Эйзенштейна в трехлетней заграничной поездке и будущий мастер советского мюзикла Григорий Александров любил вспоминать, что среди многих знаменательных встреч Эйзенштейна за границей была и встреча с Фрейдом. Этого на самом деле не было и быть не могло, потому что Эйзенштейн не добрался до Вены, несмотря на то, что у них с отцом психоанализа было немало общих знакомых, а Стефан Цвейг охотно брался представить их друг другу. Вместо несостоявшейся встречи Эйзенштейн получил присланный с автографом автобиографический очерк Фрейда, который поставил рядом с тоже надписанным автором томом исследования по графологии, знаменитым в начале века хиромантом Cheiro (графом Хэммондом). С Cheiro Эйзенштейн встретился в Голливуде и его анализу линий на собственной руке верил не в меньшей степени, чем достижениям психоанализа, — именно поэтому эти книги оказались на полках рядом. Еще больше, чем подбором книг в своей библиотеке, он гордился их сочетаниями.
3. Детективы Г. К. Честертона, Дороти Сэйерс, Эллери Квина, С. С. Ван Дайна и других
Издания:
Dorothy Sayers, Hangman's Holiday. London, Victor Gollancz, 1942
S.S. Van Dine, The Greene Murder Case. London, Toronto, Melbourne and Sydney: Cassell and Company, 1931
G. K. Chesterton, The Incredulity of Father Brown. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1929
Ellery Queen. The Chinese Orange Mystery. A Problem in Deduction. New York: Frederick A. Stokes Company, 1934
В своей биографии Эйзенштейна Виктор Шкловский так говорит об их одновременно проходившем детстве:
«На углах стояли газетчики. За газетчиками на стенах висели номера газет и пестрые обложки книжек о Нате Пинкертоне и Нике Картере и многих других; приключения всех сыщиков были очень однообразны. Такие же приключения показывались в кино — многосерийные, повторяющиеся, сокращенные и в то же время неторопливые».
«Сыщицкие романы» были одним из первых любимых Эйзенштейном жанров, но уже к началу двадцатых годов увлечение детективами вошло в актив его теоретических размышлений о форме. «Детектив — самое сильнодействующее средство, самое очищенное, отточенное построение в ряде прочих литератур. Это тот жанр, где средства воздействия обнажены до предела», — считал Эйзенштейн. Он сам часто сравнивал себя с детективом — и в работе режиссера, и в работе педагога.
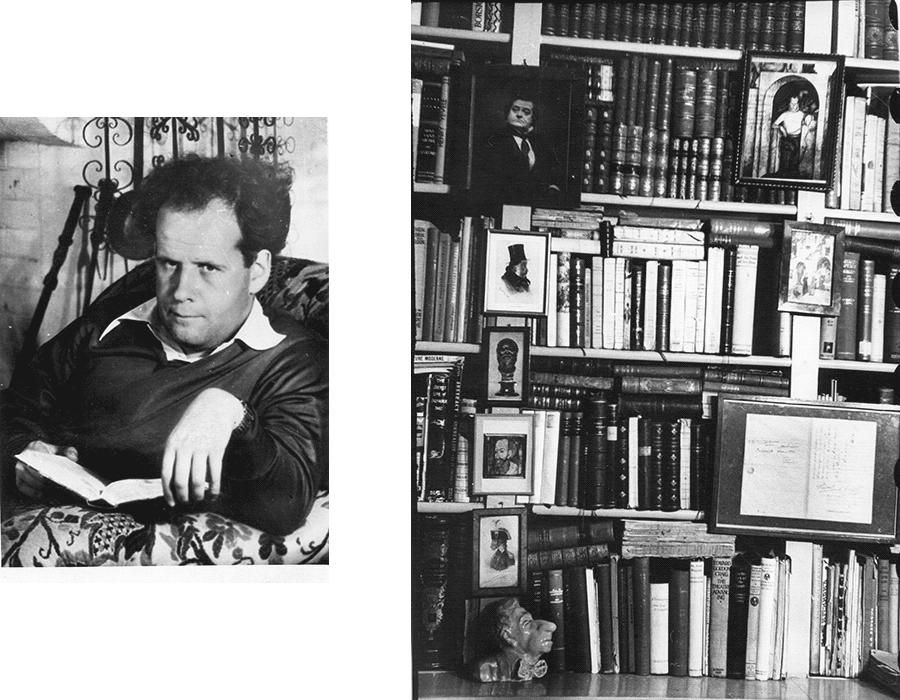
Книжные полки Сергея Эйзенштейна
Фото: предоставлено Музеем Кино
Структура детективного жанра привлекала его едва ли не больше, чем содержание любого попадавшегося под руку детектива: от Эдгара Аллана По до новейших в его время образцов жанра — Рэймонда Чандлера, Дороти Сэйерс, Эллери Квина и С. С. Ван Дайна.
В эвакуацию в Алма-Ату, где Эйзенштейн одновременно работал над «Иваном Грозным» и книгой «Метод», он, по его собственным словам, из всей своей богатейшей библиотеки взял всего пять книг: «Как всегда — отправляясь в путь — детективные романы. Ничего более». Даже если счесть этот рассказ преувеличением (он тут же приписал: «Это, конечно, ужасно поза. Ужасно „театр для себя”») и вспомнить, что Эйзенштейн вывез из Москвы как минимум еще и часть спасенного им архива Всеволода Мейерхольда, в Алма-Ате он действительно читал много детективов — в частности, из скопившихся в лавочке на Кузнецком Мосту книжных собраний иностранцев, покинувших Москву в 1941 году. Неудивительно, что Иван Грозный у него оказывается не только преступником, но и детективом.
4. Эмиль Золя, серия романов «Ругон-Маккары»
Издания: Эмиль Золя, Жерминаль. Москва: Земля и Фабрика, 1929 и др.
Поздней осенью 1929 года Эйзештейн прочел курс лекций для молодых лондонских киноманов и будущих практиков британского кино. Один из них, Бэзил Райт, потом вспоминал столкновение ожиданий и впечатлений от этих лекций:
«Вот сидели мы, с нашими тетрадками и карандашами, страстно размышляющие о Кино, великом новом виде искусства... Вот стоял он, с мелом у доски, готовый раскрыть скрытые, элевсинские тайны Киноискусства.
Он говорил о пьесах японского театра Кабуки, об Уильяме Джеймсе, Дарвине, Тулуз-Лотреке, Домье, <…> о Рокамболе Понсона дю Террайя, об Арсене Люпене Леблана, о Стефане Цвейге, Золя и Джеймсе Джойсе».
Лондонские киноманы пришли в глубокое замешательство. Но так же, как французские авантюрно-детективные романы и Джеймс Джойс, Золя в этом списке был далеко не случаен. Начав читать «Ругон-Маккаров» еще в детстве, Эйзенштейн, кажется, так и не смог остановиться. В 1928 г. в анкете журнала «На литературном посту» («1. Насколько Вы знакомы с современной литературой? 2. Литература и кино. 3. Влияет ли современная литература на кино? 4. Что нужно кино от литературы? Чувствуется ли общий стиль в развитии путей литературы и кино? 5. Что Вы можете сказать о современной критике?») Эйзенштейн, вероятно, удивил своих советских поклонников не меньше лондонских, заявив:
«Для кино больше всего сделал Золя. <…> Его читал много.
Перечитываю.
Перед каждой новой работой соответствующий том из его энциклопедии.
Перед „Стачкой” — „Жерминаль”.
Перед „Генеральной линией” — „Землю”.
Перед „Октябрем” — „Разгром” для наступления 18 июня 1917 г. и „Счастье дам” [„Дамское счастье”] — перед „разделкой”... Зимнего дворца».

Cергей Эйзенштейн
Фото: предоставлено Музеем Кино
Своей первой, «инструкторско-исследовательской» режиссерской мастерской в будущем ВГИКе (в нее входили, например, Григорий Александров, Георгий Васильев, Леонид Оболенский, Алексей Попов) в 1928–1929 гг. Эйзенштейн раздал по одному из двадцати романов Золя из серии «Ругон-Маккары» для анализа, чтобы ответить на вопрос: «как делается пафос?».
Когда в 1930-е гг. вдруг оказалось, что классики марксизма — в частности, Энгельс — предпочитают Золя Бальзака, Эйзенштейну пришлось защищать собственное предпочтение:
«Золя видит предметно. Он пишет людьми, окнами, тенями, температурами...
Страницу Золя можно просто разнумеровать в монтажный лист и по частям раздать в подсобные цеха. <…>
Злостный „золяизм”?
Однако как за „золяизм” на меня не точат зубы, я не перестану рекомендовать и... продолжать самому учиться искусству видеть всеми пятью чувствами».
5. Андрей Белый, «Мастерство Гоголя»
Издание: Андрей Белый, «Мастерство Гоголя». Москва — Ленинград: ОГИЗ — ГИХЛ, 1934
Это началось еще в детстве, с поездок на каникулы от отца в Риге к матери в Санкт-Петербург и обратно:
«Книга и дорога.
Путь сквозь страницы и путь сквозь горы, степи и равнины.
Стихи я не понимаю и никогда ими не занимался.
Но стук колес и ритм прозы — для меня сочетание необходимейшее».
Самым первым таким «чтивом» в дороге, по воспоминаниям Эйзенштейна, был гоголевский «Вий», а с ним «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Заколдованное место»: «...и, конечно, „Страшная месть” — в издании Павленкова с картинками».
Гоголя он перечитывал всю жизнь и потому так заинтересовался, когда на очередном отдыхе в санатории Академии Наук СССР, в подмосковном Узком, его соседом по комнате оказался один из редакторов издательства, собиравшегося выпустить книгу о Гоголе. Книгу писал «только что вынырнувший к новой жизни и к краткой предсмертной вспышке творческого блеска писатель Бугаев. Он же — Андрей Белый».
Стихами, особенно символистскими, Эйзенштейн действительно никогда не занимался — если не считать многочисленных отсылок в его теоретических работах к Пушкину, Маяковскому и Уолту Уитману, поэтому впервые увидел и услышал Белого в издательстве, где тот читал отрывки из еще не вышедшей книги для избранных.
Он оказался покорен анализом гоголевских образов:
«Блистательный комментарий Белого то смелой гипотезой, то непреложным фактом, то неожиданной цитатой показывает стадиальную связь, видоизменение, переосмысление, перерастание в новое качество исходного мотива, первоначального образа, расцветающего в последующем, из историко-героического, тускнеющего в мелкопоместной пошлости (Тарас — Иван Никифорович), из фантастически пугающего простою чужеземностью — угрожающего импортным индустриализмом патриархально-отечественному (кудесник — Костанжогло). <…>
А потом вдруг внезапно Белый обрушивает на вас таблицу за
таблицей, выкладки и цифры.
Чего?!
Процентного содержания разных красок в палитре Гоголя на
разных этапах его творчества. <…>
Чудо. Чудо.
Чудо кропотливости и внимания.
Чудо бережности и уважения.
Чудо прозорливости и поэтического сродства с душою автора».

Фото: предоставлено Музеем Кино
Эйзенштейн познакомился с Белым и даже рискнул спросить, почему тот не сравнил в книге Гоголя с Джойсом:
«Поразительная схожесть в методе письма этого малоросса, ставшего крупнейшим русским писателем, с этим ирландцем, ставшим гордостью английской словесности, меня давно удивляла. Джойса Белый не знает».
После этого они встречались и говорили еще несколько раз, и Эйзенштейн даже вел вечер Белого в Политехническом музее в феврале 1933 г. Год спустя, незадолго до выхода книги, Белый умирает:
«И только пронзительно-желтый переплет — ОГИЗ — ГИХЛ, 1934 — „Мастерство Гоголя”, как память об этих чудесных нескольких месяцах живых впечатлений „во Гоголе”.
Желтый переплет горит на столе, как обложка „Жермини Ласерте” Гонкуров на портрете доктора Гашэ кисти Ван Гога.
В оправе солнечной книги — драгоценности наблюдений Белого».
Уже в середине сороковых, прочитав «Безымянную любовь» Юрия Тынянова, Эйзенштейн решил снять кинобиографию Пушкина, «Любовь поэта», построенную по принципу движения цвета (как у Белого в анализе Гоголя). Этот фильм не был осуществлен, но Эйзенштейну все же удалось опробовать свои идеи «не цветного, а цветового» кинематографа во второй серии «Ивана Грозного», где сцена пира опричников строится на трех основных цветах: праздничного золотого, кровавого красного и зловещего черного.
6. Исаак Бабель, «Беня Крик»
Издание: Исаак Бабель, «Беня Крик. Киноповесть». Москва: Артель писателей «Круг», 1926
В 1928 г. в интервью журналу «На литературном посту» Эйзенштейн объявил:
«По вопросу того, что нужно кино от литературы, можно сказать с определенностью, во всяком случае, одно:
т[оварищи] литераторы, не пишите сценариев!
Производственные организации заставляйте покупать ваш товар романами.
Продавайте право на роман.
А режиссеров следует заставлять находить киноэквиваленты этим произведениям».
Он продолжил примером:
«Писать сценарий — все равно что звать акушерку в брачную ночь. Это золотые слова Бабеля периода, когда мы с ним делали сценарий „из” „Бени Крика”».
 В 1924 г. Эйзенштейн планировал экранизировать только что напечатанную в «ЛЕФе» бабелевскую «Конармию» (добавив туда «Железный поток» Александра Серафимовича), но отвлекся на «Броненосца „Потемкина”». Тогда дирекции московской студии «Госкино» показалось, что, раз «Потемкин» будет сниматься в Одессе, Эйзенштейн легко может заодно снять и что-то еще с местным колоритом — например, «Беню Крика».
В 1924 г. Эйзенштейн планировал экранизировать только что напечатанную в «ЛЕФе» бабелевскую «Конармию» (добавив туда «Железный поток» Александра Серафимовича), но отвлекся на «Броненосца „Потемкина”». Тогда дирекции московской студии «Госкино» показалось, что, раз «Потемкин» будет сниматься в Одессе, Эйзенштейн легко может заодно снять и что-то еще с местным колоритом — например, «Беню Крика».
Тогда на даче в деревне Немчиновка (по соседству с Казимиром Малевичем) Эйзенштейн и Бабель сели писать сценарий — параллельно со сценарием «Потемкина». Это оказалось совершенно мучительно: бабелевские «гениальные новеллы» никак не перекладывались в традиционный «номерной» сценарий. Через неделю Эйзенштейн сдался, сказав, что Бабель может написать, что угодно, и отдать на студию, а снимать фильм он все равно будет по «полнокровной новелле, а не по рахитичному «расписанию кадров», лишенному установки, тенденции ритмов, темпов и физиологической ощутимости того, за что стоит платить деньги авторам».
По словам Эйзенштейна, при постановке — в кино или на сцене — бабелевских текстов, «надо в первую очередь воспроизводить мизансценой расстав его слов. И целиком — их фактуру». Киноповесть «Беня Крик», вышедшая отдельной книгой в 1926 г., по словам Эйзенштейна, оказалась «абсолютно сухой вещью», где ничего не осталось «от бабелевской прелестной новеллы».
В 1936 г. Бабель работал над сценарием второго варианта эйзенштейновского фильма «Бежин луг», который затем был запрещен и уничтожен так же, как и первый. Они продолжали дружить до самого ареста Бабеля в мае 1939 г.
7. Константин Станиславский. «Моя жизнь в искусстве»
Издание: Konstantin Stanislavski. My Art in Life. Boston: Little, Brown and Co., 1924
Одним из свойств характера Эйзенштейна было то, что он характеризовал на разных привычных ему языках как yo también, me too, или «я тоже». «Я тоже могу», — говорил он сам себе, видя чьи-то успехи и используя зависть как толчок для собственных достижений в том же направлении. Так, вечно стеснявшийся говорить на публику, он заставил себя читать лекции на нескольких европейских языках, услышав, как это делает один из партийных деятелей в Советском Союзе.
Одним из неожиданных катализаторов такого чувства «я тоже могу» стала книга Константина Станиславского, «дедушки» Эйзенштейна в искусстве, — своим учителем и в какой-то мере духовным отцом (со всеми присущими эдиповыми комплексами) он считал Всеволода Мейерхольда, а тот был учеником и «блудным сыном» Станиславского. Оба ученика покинули учителей, пошли дальше в своем искусстве.
В 1924 г. основатель МХАТа, находясь на гастролях в США, выпустил на английском языке книгу My Life in Art. В 1927 г. она вышла на русском языке в переработанном виде под более привычным названием «Моя жизнь в искусстве». Для Эйзенштейна Станиславский представлял крайнюю противоположность тому, что должен делать современный театр и тем более современный кинематограф. И он решил, что напишет книгу, которая совместит теорию и биографию, но называться будет наоборот – «Мое искусство в жизни» (My Art in Life). Наум Клейман эту задумку 1927 г. называет самым ранним предвозвестником эйзенштейновских мемуаров сороковых годов — а к этому времени Эйзенштейну доделал только «Стачку» и «Броненосца „Потемкина”». Книга должна была стать не просто автобиографией, но и скомбинировать автобиографию с теорией, чтобы она легче воспринималась читателями.
К 1929 г. именно идея книги в стиле «анти-Станиславского» начала принимать самую смелую у Эйзенштейна форму — «книги-шара», где главы, предвосхищая гипертекст, свободно отсылали бы одна к любой другой, давая читателю представление обо всех темах книги разом. Он продолжал работать над этой книгой с перерывами еще пару лет, но так и не доделал. В очередном предисловии к ней он написал: «Увы... Книжки не пишутся шарами».
16 февраля, в 14:30, в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет презентация книги «В Доме Мастера» о квартире Сергея Эйзенштейна, где биография и творчество режиссера рассматриваются через призму многочисленных сохранившихся предметов быта и искусства, а также книг, наполнявших его дом. Книгу представят ее автор-составитель, куратор мемориального кабинета Эйзенштейна в Музее кино Вера Румянцева-Клейман и многолетний хранитель и исследователь эйзенштейновского наследия Наум Клейман. После этого будет показан сборник уникальной кинохроники с участием Сергея Эйзенштейна.