Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Письма Плиния Младшего. Письма I–IX. М.: Наука, 1984. Перевод с латыни М. Е. Сергеенко, А. И. Доватура
I
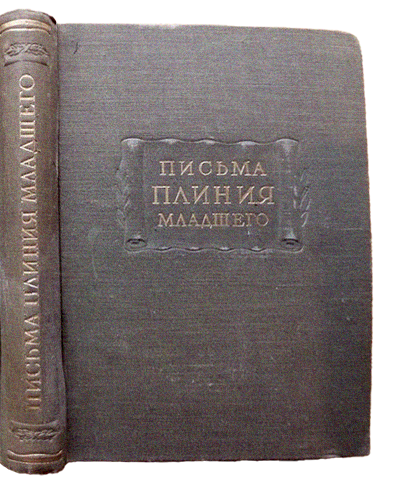
Крайне редко приходится испытывать нежные чувства при взгляде на сами книги, а не на их содержание, но в этот раз случилось нечто необычное, едва ли поддающееся объяснению.
Я гостил у Станислава Нарановича, ценителя мудрости и большого поклонника всего умеренного и античного. Как и подобает тому, кто во всем стремится к умеренности, он решил перебрать свою библиотеку и избавиться от лишнего. Он собрал стопку книг и было понес ее в подъезд, «вдруг кто заберет» (Наранович склонен думать о людях лучше, чем они того заслуживают, и потому был совершенно искренним в своем порыве).
Остановив его, я посмотрел на корешки. Майн Рид, несколько томов Достоевского, еще что-то приключенческое — и взгляд мой вдруг остановился на литпамятниковском издании младшего из Плиниев: совершенно жалким образом помятый коленкор болотного цвета, бумага типографская № 2, желтая, как зубы мускусной крысы, «Издательство „Наука, Москва, 1984“».
Тут же я представил историю этой книги и именно этого экземпляра, вышедшего из печати в последний год перед началом краха советской империи. В какой жалкой и жуткой обстановке ее листали первые читатели — войска безнадежно забуксовали в Афганистане, страной в меру сил командует полуживой Черненко, а тут, без всяких предисловий, простые, внятные, чистые слова: «Плиний Септицию привет». Тот случай, когда глубокая древность куда яснее, чем лежащее на поверхности настоящее.
II
Плиний Младший родился в годы деспотии Нерона, а умер при «хорошем императоре» Траяне, которого прославил в веках знаменитым панегириком — одной из вершин риторического мастерства той эпохи. Нынешние историки учат, что оратор заблуждался в своих оценках вождя, пришедшего на смену тирану Домициану. И это не единственное его заблуждение, которое через две тысячи лет обрастает уже не столько ошибочными, сколько возвышенными смыслами.
Так, в письме к советнику Кальвизию Руфу (III.1) он воздает хвалу консулу Титу Вестрицию Спуринне, который пешими прогулками, чтением, умеренностью в пище и эстетических наслаждениях даже в почтенном возрасте сохранил здоровье тела и души: «После семидесяти семи лет ни зрение, ни слух у него не ослабели, он жив и подвижен; от старости у него только рассудительность. Такую жизнь предвкушаю я в желаниях и раздумиях, в нее жадно войду, как только возраст позволит пробить отбой».
Плиний прожил чуть более пятидесяти лет — крайне мало по меркам современного европейца, но более чем достаточно, если жить так, как жил автор «Писем», советующий: «Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем» (I.9). И сетующий: «Давно не знаю, что такое отдых, что такое покой, что такое это сладостное состояние: ничего не делать, быть никем» (VIII.9).
Среди адресатов Плиния и упоминаемых им современников особое место занимают стоики, цитирование которых больше не соответствует российскому законодательству. Однако главное не это, а непрерывное стоическое усилие, проходящее через все сохранившиеся тексты Плиния. В этом смысле «Письма» — полная противоположность популярной версии современного стоицизма, по злой воле журналистов пугающе быстро выродившийся в безрадостный селф-хелп.
Но как только замечаешь, что Плиний тебя утешает, помогает «пережить трудности», следует немедленно закрыть книгу и отвлечься на что-нибудь невыносимо глупое, чтобы не забывать, в каком мире ты существуешь.
III

За чтением той древности, что яснее настоящего, невольно задумаешься о судьбе ее переводчиков — антиковедов Марии Ефимовны Сергеенко и Аристида Ивановича Доватура.
Свое сорокалетие Доватур встретил под арестом — шел 1937 год. Его приговорили к десяти годам лагерей, к которым из-за високосных годов прибавилось два дня. От общих работ его избавил врач Николай Зубов, впоследствии близкий друг Солженицына. В медчасти, где провел остаток срока Доватур, он переводил греков, которых ему присылали родственники. Если верить легенде, лагерная цензура не пропустила лишь одну вещь — трагедию Софокла с неблагонадежным заглавием «Царь Эдип».
Когда Сергеенко было приблизительно столько же, сколько было Плинию, когда его жизнь подошла к концу, началась блокада Ленинграда. В погибающем городе она продолжала преподавать латынь в медицинском институте. В «Блокадной книге» Адамовича и Гранина приведено свидетельство о том, как Сергеенко читала на семинаре для других историков доклад об устройстве римских виноградников пятого века. На той же странице можно заметить сцену растопки печи щепками от гроба.
Тогда же Мария Ефимовна перевела «Исповедь» Блаженного Августина. Именно в ее изложении мы все и читали эту книгу, едва ли задумываясь о том, в каких обстоятельствах создавался ее русский перевод.
Как пережитые и увиденные ими страдания их не уничтожили? Плиний, обращаясь к тому самому Тациту (VI.20), так сообщает об одном великом несчастье, пережитым им в молодости:
«Уже много дней ощущалось землетрясение, не очень страшное и для Кампании привычное, но в эту ночь оно настолько усилилось, что все, казалось, не только движется, но становится вверх дном. Мать кинулась в мою спальню, я уже вставал, собираясь разбудить ее, если она почивает. Мы сели на площадке у дома: небольшое пространство лежало между постройками и морем. Не знаю, назвать ли это твердостью духа или неразумием (мне шел восемнадцатый год); я требую Тита Ливия, спокойно принимаюсь за чтение и продолжаю делать выписки. Вдруг появляется дядин знакомый, приехавший к нему из Испании. Увидав, что мы с матерью, сидим, а я даже читаю, он напал на мать за ее хладнокровье, а на меня за беспечность. Я продолжаю усердно читать».
Рассказ о катастрофическом извержении Везувия он завершает так: «Множество людей, обезумев от страха, изрекали страшные предсказания, забавляясь своими и чужими бедствиями. Но и тогда, после пережитых опасностей и в ожидании новых, нам и в голову не приходило уехать, пока не будет известий о дяде».
Быть не может, чтобы эти строки не отзывались в душе переводчицы, когда она перекладывала их на русский язык. Особенно если вспомнить, о каком дяде идет речь.
IV
Что значит быть рабом? Если отвечать на этот вопрос не философски, а юридически, то это, например, «труд, связанный с принуждением, насилием, угрозами, устрашением и лишением свободы» с целью «заставить какое-либо лицо против его воли работать на благо другого». По данным ООН, сейчас число жертв рабства по всему миру превышает сорок миллионов человек. Нет никаких оснований считать, что это число не будет расти.
Младший из Плиниев был рабовладельцем, он покупал людей, как вещи, и продавал людей, как вещи. Рабство для него было предметом, в котором он блестяще разбирался: «По-моему, рабы, купленные по твоему совету, вид имеют приличный; только бы были бы они честны, но тут уже надо полагаться не на то, что видишь, а на то, что услышишь [от их прежних владельцев]» (I.21).
Для Плиния нет ничего предосудительного в эксплуатации одного человека другим, для него рабство — лишь одно из множества возможных бытийственных состояний личности. Сам он не держал «шутов, кинедов и дураков» и не находил ничего забавного в их ужимках, однако и не осуждал тех, кто находил наслаждение в том, чтобы развлекаться за счет несчастий других:
«Подумай, как много людей, которых отталкивает все то, чем мы с тобой пленяемся и увлекаемся, как нечто нелепое или докучное. Сколько людей, когда выходит чтец или лирник, или комический актер, требуют свои башмаки или лежат, чувствуя скуку, не меньшую, чем та, с которой ты вытерпел этих чудищ (так ведь ты их называешь). Будем же оказывать снисхождение чужим увеселениям, чтобы получить его для наших» (IX.17).
Есть соблазн сказать, что для Плиния свобода — это возможность погружаться в усердные занятия. Этому соблазну, видимо, через две тысячи лет поддался поэт и эссеист Иосиф Бродский, явно пытавшийся имитировать римский образ мышления, когда говорил: «Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку».
Это не так. Если суммировать изложенное в «Письмах» скорее напрашивается вывод, что быть свободным значит быть настолько справедливым, насколько это возможно в текущем общественном строе.
V

Пожалуй, самый ценный урок, который Плиний передал своим читателям сквозь века, заключен в письме Аннию Северу (II.6). Здесь он рассказывает о покупке коринфской статуи:
«Кости, мускулы, жилы, вены, даже морщины — перед тобой живой человек: редкие ниспадающие волосы, широкий лоб, сморщенное лицо, тонкая шея; руки опущены, груди обвисли, живот втянуло. И со спины видно (насколько можно судить по спине), что это старик. Бронза, судя по ее настоящему цвету, старая и старинной работы. Все, одним словом, может остановить на себе глаз мастера и доставить удовольствие человеку несведущему».
Но интересно не это, а то, с какой целью Плиний купил скульптуру: «чтобы поставить в родном городе в месте посещаемом, лучше всего в храме Юпитера: дар этот, кажется, достоин храма, достоин бога». Эта уверенность в том, что твой вкус соответствует божественному, проходит через все девять (или десять) книг писем, и раз за разом подтверждается тем, как они устроены. Плиний нашел именно божественное равновесие между рациональным и поэтическим, истиной и ее искажением.
VI
Очевидно, что одной из задач, которые преследовал автор «Писем», было увековечивание в веках того и тех, кого он считал достойными. Это одна из сквозных тем его посланий; в одном из них он цитирует стихи своего умершего друга Марциала и говорит, например, следующие трогательные слова:
«Стоит ли человек, так обо мне написавший, чтобы я и тогда проводил его, как дорогого друга, и сейчас горюю как о дорогом друге? Он дал мне все, что мог; дал бы и больше, если бы мог. А впрочем, чем можно одарить человека больше, как не вечной славой? „Его стихи вечными не будут“ — может быть, и не будут, но писал он их, рассчитывая, что будут» (III.21).
Практически каждое его письмо — прежде всего портрет его адресата, среди которых хочется особо отметить такой, созданный вольно или невольно: «Ты здесь от всего получишь наслаждение. Ты и поучишься здесь и почитаешь на всех колоннах и на всех стенах множество надписей, в которых прославляется этот источник и его бог. Многое ты одобришь; кое над чем посмеешься; впрочем, по своей мягкости ты ни над чем не посмеешься» (VIII.8).
Это приглашение обращено Виконию Роману, о котором практически ничего не известно. Возможно, он был сенатором, но это лишь предположение. Зато нам достоверно известно, что человеком он был мягким и благодушно относился к тем, кто ниже его по статусу.
Следует стремиться к тому, чтобы и от нас в веках остались не обрывки паспортных данных, но наши человеческие свойства.
VII

Легко и приятно читать того, кто целиком соответствует твоим представлениям о нравственности и морали. Не таков Плиний, по долгу государственной службы участвовавший в гонениях на христиан и даже придумавший своего рода стандарты применявшихся к ним психологических пыток:
«Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал так. Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся спрашивал во второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял на казнь. Я не сомневался, что в чем бы они ни признались, но их следовало наказать за непреклонную закоснелость и упрямство. <...> Мне был предложен список, составленный неизвестным и содержащий много имен. Тех, кто отрицал, что они христиане или были ими, я решил отпустить, когда они, вслед за мной, призвали богов, совершили перед изображением твоим, которое я с этой целью велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном и вином, а кроме того похулили Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих поступков» (X.96).
(Впрочем, есть мнение, что это поздняя вставка, не принадлежащая руке Плиния). Совсем другое дело — воспетая в «Панегирике Траяну» массовая казнь доносчиков, схваченных после свержения Домициана: «Мы узнавали их и наслаждались, когда их вели, точно умилостивительные жертвы за пережитые гражданами тревоги, за кровь казненных, на медленную казнь и тягчайшие муки. Все они были посажены на быстро собранные корабли и отданы на волю бурь: пусть, мол, уезжают, пусть бегут от земли, опустошенной через их доносы; а если бури и грозы спасут кого-нибудь от скал, пусть поселятся на голых утесах негостеприимного берега, и пусть жизнь их будет сурова и полна страхов, и пусть скорбят об утерянной, дорогой всему человеческому роду безопасности».
До чего мудрый поступок! С одной стороны, порядочные граждане испытали наслаждение, созерцая, как вершится справедливость, с другой — были освобождены от неудовольствия лицезреть их предсмертные муки. Если человечество вновь обратит взор к звездам, можно будет корабли морские заменить на космические и использовать их в тех же целях.
VIII
Все перечисленное складывается из того, что в «Письмах» Плиния нет ни одного лишнего образа, ни одного лишнего слова. А если что-то и кажется таковым, то привнесено оно осознанно, для придания этим текстам наибольшей естественности, которая только возможна. С первых же строк Плиний демонстрирует высокое мастерство лукавства, которое и лежит в основе подлинного искусства литературы:
«Ты часто уговаривал меня собрать письма, написанные несколько тщательнее, и опубликовать их. Я собрал, не соблюдая хронологического порядка (я ведь не писал историю), а как они попадались под руку» (I.1).
Это не так. Все письма были тщательно отделаны Плинием и расставлены в единственно верном порядке, чтобы они стали тем, чем стали: памятником абсолютной, тотальной, находящейся на пределе человеческого понимания — свободе.
