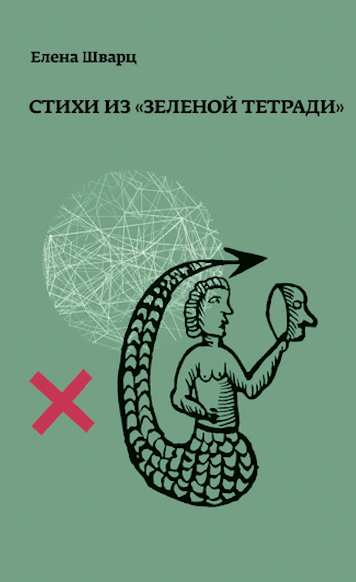 Елена Шварц. Стихи из «Зеленой тетради». Стихотворения 1966–1974 годов СПб.: Порядок слов, 2018
Елена Шварц. Стихи из «Зеленой тетради». Стихотворения 1966–1974 годов СПб.: Порядок слов, 2018
Поэтический метод и голос Шварц оформился в конце 60-х — середине 70-х годов. Уже тогда она пишет «Элегию на рентгеновский снимок моего черепа» (1972), «Море» (1964), «Зверь-цветок» (1976), «Зимний лес» (1965), «где пречистая дева Мария, словно белка в дупле, живет». В «Зеленой тетради» собраны как будто бы не самые первостепенные поэтические опыты, ранее не вошедшие в основной канон ее текстов, на что отдельно указывает в предисловии к книге Ольга Виноградова.
Эти тексты не просто «упражнения», пусть и большой «силы». Невозможно сказать, что в этих стихах именно выкристаллизовывается, лабораторно вырабатывается метод Шварц. Думаю, что на письмо Шварц вообще сложно смотреть линейно. Ранние и поздние тексты образуют сложные связи, между ними — длинные временные тоннели встреч, образов и поэтических состояний. Метаморфоза, начатая в одном тексте, может продолжиться десятилетия спустя в другом. Внутренняя жизнь происходит вне времени, а интеллектуальная — в нескольких временах сразу.
Сама восемнадцатилетняя Шварц пишет в знаменитой дневниковой записи 1966 года: «Стихотворение просто (имеющее право так называться) — это выстроенное по правилам неземной архитектуры бормотанье с озареньем на конце.<...> О чудные разрывающие сердце звуки, плоть стихотворенья. Но забуду все ради неуклюже спотыкающегося озарения, которое часто приходит калекой, на деревянных костылях в рваной одежде». И в «Стихах из „зеленой тетради”» встречаем:
Что стихи есть — мирозданье
Или камешек в кольце?
Или это бормотанье
С озарением в конце?
Я б хотела, чтоб сияли,
Легкой плотью снащены,
Чтобы ангелами стали,
Если ангелы больны.
(«Представление о стихах в 18 лет»)
Здесь — ключ к ее методу: неуклюже спотыкающееся озарение. Стихи могут стать ангелами, но только больными и хилыми: «О ангелы, вы хилы. / О ангелы, вы подхалимы». (Это строчки из стихотворения 1963 года, оно не вошло в сборник). Ей изначально тесно, душно в письме. Она в нем как молодой зверь или птица в клетке. И задача здесь — выбраться, научиться навигировать в открытом пространстве, где имеют значение не поэтические мускулы, орудия языка и пусть и разорванная, но некая цельность субъекта (как у Бродского), а движение к невозможному иному, что на самом деле тоже организует поэтическую субъектность, но более процессуальную, сложную, полифоническую.
Озарение не может быть «идеально организованным» с точки зрения архитектуры текста. Почти уверена, что, по Шварц, — это не «дар». Его подготавливает сложное движение, сломы метрических логик, времени строки = внутренней жизни. А внутренний мир текстов Шварц, в свою очередь, не монологичен, его удерживает как бы собранным лишь странная вера, движение-стремление к витальности преображения:
«Мне хочется довести слова до такой высоты материализации, до плоти легкой ангелов, легкой и огненной, чтоб они населили небо, если оно пусто. Я пишу все это неизвестно отчего, не во вдохновении, сидя на чердаке, выгнанная из класса за чудовищное опоздание. Сегодня двадцатое апреля, и скоро мне стукнет восемнадцать. И я хочу, чтобы меня выгнали из университета и я могла бы писать стихи и только писать стихи. О Боже, помоги мне, и я проведу свою молодость в душной комнате, у колб и реторт. И превращу камень в золото, слова — в стихи живые и ослепительные». (Та же дневниковая запись 1966 года).
Камень — в золото, слова — в живые стихи. Для этого она анархически подрывает классические размеры, быстро фланирует по ним в пределах даже нескольких строк, смешивает модернизм и барокко, низкое и возвышенное, ангелов и похмельную блевоту, историю культуры и повседневные телесные процессы, Евангелие и Чебуречную. Ее ранние стихи действительно напоминают мастерскую, но старую, загроможденную холстами мастерскую, где, возможно, работали несколько поколений художников разных школ, где стены и пол пропитаны слоями краски, где этажи картин, эскизов и материалов расположены в своеобразном упорядоченном беспорядке. Что происходит в этой мастерской? Странное учение «веселой науке» неуклюжих озарений.
*
В «Зеленой тетради» уже начинается работа с полиритмией. Устанавливается сложное дыхание. Сцена — цезура. И на ней идет удивительное представление. Шварц сумела создать оригинальное пространство полиритмического стиха внутри пространства силлабо-тонического, дерзкое номадическое племя поэтического языка, фланирующее между государствами возвышенной и посведневной речи, между детским лепетом и большими историями. Здесь также трансисторическое и транскультурное движение образов (Орфей, Демиург, Христос, Козьма Медичи, «железная Екатерина», Павел и др.), но важно и пространство, где разворачиваются эти миры. С одной стороны — это реальный и довольно мрачный советский Петербург, где «И над всем игла уходит /  Ввысь, как вопли на морозе» или:
Ввысь, как вопли на морозе» или:
Покуда снег идет, шатаясь,
Походкой пьяного матроса
От Мурманска до Ленинграда,
Покуда дым от папиросы
Летит, кружась, к решетке сада,
Бормочет он на остановке:
«Купить бы пол кило веревки».
Железная Екатерина
Стоит почти под облаками:
Это строчки из «Стихов о неврастенике», и очевидно, что неврастеник — сам город, его состояние каким-то образом определяет и состояние лирической героини Шварц, то «заземляет», то «разгоняет» восприятие. Все-таки Шварц — это не «поэт мира», но поэт места, Петербурга, его изнанки и мифологии (образ «окна в Европу» возникает в цикле «Петербургские сплетни» как «дымящаяся рана»). С самых первых опытов стихи Шварц прирастают к Питеру, вмуровываются в него. Номадизм Шварц — не в пространстве, он во времени, а Петербург выступает временным и культурным узлом, точкой, с которой начинается путешествие. «Слаще облак райских / Мне приснился вдруг / И немецкий, и китайский / Деревянный Петербург». («Петербургские сплетни»)
Читая некоторые тексты из сборника («Чебуречная», «Город с похмелья», «Футбол»), я очень живо представляла этот полузастывший Питер 60-х с ангелом в «грязной окраинной Чебуречной» («А в Рождество / Над стойкой — ангелок-попечитель, / Посетителей тихий лечитель, / В халате синем с дырами, / С промасленными крыльями») и где «Камня хладная свирепость / Да минует нас — / Петропавловская крепость / Эрмитажу выбьет глаз» («Город с похмелья»), а неподалеку «Ломтем разваренного мяса / На блюд<е> оловянных вод / Кронштадт дымится».
С другой стороны, здесь уже узнаваем и надмирный, мистический ландшафт письма Шварц, в котором главное время года — зима, главная стихия — море, он населен божественными животными, ангелами, камнями, снегом, телами, историями, кровью. Тут «лютня с волком говорит», и уже чувствуется вот эта шварцевская «барочная эстетика» — бесконечное самоуглубление-нанизывание образов и пространств, сложная символически нагруженная образная система. Толпа, толпы образов и миров. Возможно, что все это возникает в ответ на одиночество самой Шварц, оставленность и внутреннею «вневременность» ее лирической героини, вообще — человека, как она его видит. Застывшие и неопределенные пространства она начинает заселять непрерывно трансформирующимися мирами. Этот поэтический многомир — результат процесса алхимической трансмутации, хотя к алхимическому пониманию собственного письма и чтению алхимических текстов Шварц пришла позже: «Мое направление — это какой-то метаморфизм, потому что у меня все переплетено со всем. Это есть и алхимия, в каком-то смысле. То есть постоянная трансмутация всего и вся, единство мира через это». («Поэтика живого», беседа с Антоном Нестеровым для журнала «Контекст», 2000)
И тут уже подготавливаются алхимические взвеси, разрушаются поэтические границы, которые могли бы сдерживать трансформацию. Запись в дневнике от 7 сентября 1963 года заканчивается так: «По-моему, самое важное чувство для художника — это не иметь чувства масштаба. Сбрасывание традиционных мер, пространство должно быть инстинктивным, в крови». И продолжается в «Зеленой тетради» вопросом в стихотворении «...»: «И что достойнее — быть певчим иль святым / Или химерою в соборе мирозданья».
«Стихи из „Зеленой тетради”» интересно читать вместе с опубликованными в 2012 году юношескими дневниками Шварц: идеи, состояния, поэтические образы и там и там перекликаются. Александр Скидан называет юношеские дневники Шварц не просто литературным, но и «антропологическим» документом. И это действительно так: мы видим как в девочке-подростке послевоенного поколения рождается какой-то невероятной силы и красоты мир, личность многих времен, которая как будто не должна была там и тогда возникнуть: «Мне бы меч сейчас — и врезаться в коней, людей, в дым, кровь, — и пусть все кончится пытками или холодной сталью. Ни о чем не думаю, только где-то в глубине отлеживается „Фауст”. Вальпургиевы ночи в черепе — я их предчувствую». (Запись в дневнике от 28 августа 1963 года) О своем поколении она пишет:
Как мы пили молоко,
До чего же не удались —
Ростом, голосом, злобным взором —
Кто у самой войны родились,
Как грибы под высоким забором.
И здесь у Шварц постепенно рождается идея поэзии как превращения мира и своей жизни в иную, другую жизнь и синхронизируется потом с христианской идеей преображения. Это вера, найденная «на задворках», как бы случайно:
«Снег удовольствия не находил в работе
Светить и стекленить массивы темной плоти
<...>
Где шкаф стоял дубовый темной плоти,
Две выставив в царапинах стопы,
Где я нашла средь шумных книг толпы
Евангелье в истертой позолоте,
Селились в корешке его клопы» («Со смирением»)
*
Ключевые образы-субстанции этих стихов: кровь, снег, камень, вода Невы и моря, алкоголь.
Тема алкоголя и связанных с ним физических состояний — в текстах «Город с похмелья», «Сорокоградусные песни», «О жажде» (цикл «Петербургские сплетни». Алкоголь тут тоже выступает как вещество трансформации, «стихия» письма, это проявитель особых состояний и скрытых свойств вещей (так похмелье обнаруживает в пепельнице лицо старухи («Сорокоградусные песни»)). Еще тут рядом с «высоким письмом» — постоянный уход в иронию, юмор, легкую и карнавальную языковую игру:
Я сделаюсь Невой,
Я корюшкою стану,
Летит мое такси
Подобно ероплану.
Это ты — моя таксивка
Однозелеглаза.
От копыта до загривка
Ана ниси маза.
Такой как бы ребенок, но серьезный. Классическая оппозиция «Шварц — Бродский», оба носители романтической поэтической субъектности: она полифонична — он монологичен. Он — субъект трагический, разорванный, живущий горькой иронией и цинизмом, крушением культур, она — витальная, открытая миру, жертвенная, ее ирония — карнавальная, исковерканная, дерзкая. Девочка-петрушка, соединившая метафизическую сложность и балаганчик. И — на мой взгляд — единственная, кто в поэзии второй половины XX века всерьез исследовала измерения и опыты поэтического экстаза, особых состояний, связанных с письмом, не отбиваясь от них как от «устаревшей категории вдохновения», а понимая как специфический вид энергии, меняющей мир, жизнь, тело.
 *
*
Вот фрагменты из диптиха про Демиурга, который, как мне кажется, для Шварц служит и авторефлексией по поводу собственного поэтического метода:
«То русский превращает он в тосканский,
То с Хлебниковым смотрит в микроскоп,
Где атомы языковые построятся татарскою ордою.
То дамским станет он плохим портным,
На местечковом сыплет и картавит»
<...>
«И все потом он превратит в цвета,
И все они в один смесятся — белый —
Язык молитв и выраженья боли.
Хоть не дрожат голосовые связки,
Но самый громкий — ты — язык без маски» («Филологические развлеченья Демиурга»)
Тут буквально описывается еще и опыт синестезии, который включают в себя многие более поздние тексты Шварц: язык ощущается как цвет. В «Хирургических развлечениях Демиурга» препарируется земля, планета, мир, исчезает различие между большим и малым, изменяется пространство и пропорции, подготавливается место для трансмутации.
*
И тут соединяется неловкое и возвышенное, культурная игра, ирония и интимность. Это очень дерзкие тексты. Очевидные влияния: Цветаева, Заболоцкий, Хлебников. В сборнике есть, например, такой очень цветаевский текст-самонапутствие:
Снова поезд в снова,
Даль туманом повита,
Тут уж — хочешь не хочешь —
Станешь ты самовита.
Сохрани свои привычки,
И в дорожной злой тоске
Я держу сырые спички
В правом огненном виске.
Огненный висок! И запись в дневнике от 31 августа 1963: «Сегодня день смерти Марины Цветаевой. Все остальное неважно».
Видно также разные модуляции «витальности», даже довольно мрачной, низкой. Отдельными местами этот сборник напоминает мне «Трудно быть богом» Германа. Безвременное и мучительное средневековье:
Оркестрик маленький,
Как угли на снегу,
Еще черней казался от мороза. —
Летая, птица хохотала — «Не могу!»
Внизу завыла горсточка навоза! (элегия «Воспоминанье о Таврическом саде»)
И практически во всех текстах — зима, январь. Зима здесь не просто календарное время года или «поэтическое настроение». Зима — это невозможность метаморфоз, стагнация, стазис, мортальность. Тяжелое и тоскливое время, где «январь-сапожник» «в глазу у мертвой щуки солнце красное качает» и когда «времени неотвратимость / любит мертвая природа». Но именно она для Шварц тут выступает временем преображения:
Но нет зимы на небесах.
Растет, растет там камень белый.
Там каменные плавают дома.
О, глина, дерево — июли вы, апрели.
Но булыжник — Господня зима,
И тоска его без предела. («Ангел-хранитель»)
 В другом стихотворении — генеалогия «первой зимы творенья», зимы, где ангелы, как дети, играют в снежки:
В другом стихотворении — генеалогия «первой зимы творенья», зимы, где ангелы, как дети, играют в снежки:
Обида есть первое
Из всяких многих чувств.
Когда так пусто было на земле
И ангелы еще в снежки играли,
Вдруг архангел Михаил
Люциферу глаз подбил,
Растекся по щеке снежок —
Обиды боль, стыда ожог —
Вот первая зима творения.
*
Что могло побудить саму Шварц собрать «зеленую тетрадь» и оставить как бы отдельно? Возможно излишняя «сделанность», формальная завершенность и организованность некоторых текстов («Баллада о Махно», «Испорченная пластинка» и др.), где как раз озарению, по мнению Шварц, не хватало «неуклюжести»? Может быть, некоторые эти ангелы недостаточно больны и хилы, а поэтому — по логике Шварц — далеки от экстаза? Еще одна особенность метода ранней Шварц — разворачивание полотна поэтического текста из одного места или образа (здесь — параллель с Заболоцким), его углубление-исследование. В других стихах, написанных позже (80-е), Шварц может создавать более разветвленные миры. В любом случае здесь целый ряд сильных текстов, перечислю некоторые из них: «Два стихотворения об ангеле-хранителе», «Чебуречная», «Семь ликов буддийского храма», «Футбол», «Из морских», «Наклоненье и выпрямленье крови», «Развлеченья Демиурга».
«Вознесение», на мой взгляд, ключевой текст в сборнике. Это фактически сюрреалистическое религиозное полотно, где возникает какой-то очень странный баланс между визионерством и профанной поэтической игрой:
Христос,
Одетый в розовые ленты, латы,
Взвивался.
К его пяте была приклеена голова
Солдата.
Не им, но силой той,
Которой подчиняются и море, и заря,
Как будто воздух тянет
Огромная ноздря.
Здесь появляется и символически нагруженный образ шмеля, который превращается в библейское Слово, и «Монета, судорожно молясь, / В темноте кошелька / Превращается в крест»:
Огромная ноздря тянула воровато
Все, что ни попадись:
Спасителя, солдата.
Багровый шмель томительно жужжал,
И подымался.
И в улетающую пятку
Жалобно впивался.
И превращался обратно в Слово —
Тлетворный корень естества земного.
*
Теперь представь себе: заснеженное мерцающее поле, берег зимнего моря, в него вмурован гнилой корабль, вдалеке виднеется большой каменный город, на небе — его город-двойник; над полем парит Христос в розовых латах с головой солдата на пятке, внизу движутся больные ангелы со свертками крови; девушка с бутылкой вина, книгой и сигаретой смотрит, как струйки крови, словно живые растения, выпрямляясь, вырастая прямо из снега за несколько секунд, поднимаются к небу и там из них образуются строчки какого-то едва знакомого текста; издалека приближается советский трамвай — в нем узнаются лица о чем-то беседующих Цветаевой, Хлебникова и Заблоцкого.
Так я вижу пространство «Зеленой тетради». Оно не менее сложно, чем другие поэтические пространства, созданные Шварц. В нем можно ориентироваться, но сложно обжиться.
*
Когда я в первый раз открыла тексты Шварц (это были сборники 90-х — 2000-х), то они поразили своей анархичностью и анахроничностью одновременно, чем-то, что не свойственно было уже как-то знакомому мне условно «модернистскому» письму питерского, да и московского, андеграунда. У нее не было стремления создать выверенный, монолитный, самотождественный текст — текст-высказывание, — но при этом она смогла написать меняющие каноны тексты и при этом сама не вписаться ни в какой условный канон. Больше всего поражали все эти особенные ритмические рисунки, свобода соединения разных тектонических плит-лексик, сокровенность и такая близость (к читающим) дыхания, которые меняют в восприятии письма все и навсегда: «Я смотрела на звезду, понимая / Что между нами длинный канал. / Руки поднять и скользить туда, где она, сияя, / Нервничает, как ночной вокзал». Это сразу оставалось в памяти. Я чувствовала, что это живая и открытая поэтическая система, способная работать с возвышенным на грани «фола», способная на любую ошибку, которая может привести к неуклюже спотыкающемуся озарению, а может и не привести, и это тоже важно. А еще, что это — женский голос, несмотря на всю ее перформативность и некоторую андрогинность, желание быть Поэтом и именно с большой буквы. И сейчас мне кажется, что вот в этих эпатажных, наверное, для того времени поэтических описаниях женского похмелья, что есть в «зеленой тетради», тоже бунт против монополии мужских поэтических голосов на описание «возвышенного» в «низком», против мужской монополии на любой экстраординарный опыт.
Сегодня уже можно открыто говорить о том, что в каноне андеграундной литературы доминировали мужчины, поэтические среды того времени, как и некоторые теперешние, были довольно мизогиничны (открыто и на уровне своего «коллективного бессознательного»), а женщины здесь воспринимались скорее как музы, соратницы, жены, собеседницы и те, кто помогает налаживать пространство всего этого подпольного литературного мира, формирует его (например, как Рита Пуришинская, жена Леонида Аронзона, чьи письма были недавно опубликованы отдельной книгой). Шварц в этом выбрала, высвербила какой-то свой путь и, пройдя по краю больших нарративов и религиозных метафизик, смогла вписать в канон в том числе и свой женский опыт, свои отношения с письмом, где: «Разрослой клубникой / Сердце сладеет / Или проглоченным угольком / Тихо в углу своем тлеет». Интересно, что она практически отказалась от любовного письма, куда женщине, может быть, традиционно и легче всего было вписаться, искала другие способы субъективации. Чтобы не было так одиноко, придумала себе друзей — поэтических гетеронимов вроде Арно Царта. И с точки зрения феминистской оптики ее тексты и ее опыт существования в средах питерского андеграунда могут быть сегодня осмыслены иначе, чем, скажем, 10–15 лет назад.
*
Главная идея письма Шварц — идея полифонического целого. Собирания множественности культур, голосов, поэтических регистров, интонаций. Так она собирает и себя как последнего человека. Даже когда-то будучи трансгрессирующим, страдающим и жертвенным, ее поэтический субъект обретает все же какую-то собранность в анархическом стремлении к откровению. Он уверен, что мир наличного — не для него. Иное может быть получено как через визионерство, так и в похмельном трипе-прогулке. Это мистическое и утопическое представление Шварц о поэзии как способе изменения, трансформации и преображения мира совсем не устарело, а, наоборот, для такого представления сегодня в том же «левом письме» много оснований и возможностей. 11 января 1964, дневник: «<...> Очень давно, когда мне было лет шесть, мама сказала, не помню к чему: Гений как молния, неизвестно в какой дом попадет. А я почему-то думала, что молнии пролетают в дом по печным трубам, точно в комнату, ведь знают, куда их бросить. И вот мне мерещилось, что я прилетела по трубе и вылетела черная в золе и саже. Я еще не знаю — кто я. Но вдруг я самая сильная?»
