— От некоторых коллег я слышал такую мысль, что работы по теории литературы кажутся им более интересными с интеллектуальной точки зрения, чем сами литературные произведения, которые в них анализируются. Скажем, не хочу читать Бальзака, но хочу читать Лукача, пишущего о Бальзаке. Как вы считаете, с чем связана такая привлекательность литературной теории?
— Я думаю, что здесь важны два фактора. Во-первых, в период своего расцвета литературная теория задавала тон всей интеллектуальной жизни, находясь в тесном симбиозе с философией, прежде всего континентальной. В определенном смысле литературная теория была разбавленной версией философии, если можно так выразиться. Во-вторых, это связано с тем, что некоторые исследователи рассматривают литературную теорию как ответвление интеллектуальной истории. Они ищут в теории ответы на более широкие вопросы: как меняется образ мышления, как меняются структуры познания. В таком случае для них действительно важнее читать о Бальзаке, а не самого Бальзака. Лучше всего, конечно, делать и то, и другое. У Набокова в романе «Пнин» есть такая шутка: профессор французской литературы французского не знал и литературы не любил.
— А как вы начали заниматься литературной теорией? Почему вас привлекли авторы из Восточной и Центральной Европы: Бахтин, Лукач, Шкловский и другие?
— В Восточной и Центральной Европе при коммунизме литературная теория на филологических факультетах обладала особым престижем. Были и по сей день существуют отдельные кафедры литературной теории. Теория задавала тон мышлению и конкретным исследованиям — иногда несколько тоталитарным образом. После переезда в Англию в 1993 году я начинал писать английскую диссертацию, одновременно заканчивая болгарскую, посвященную раннему модернизму в Болгарии. Я сидел в Оксфорде и думал: о чем же я хочу писать? В итоге я решил написать работу о Лукаче и Бахтине — теория романа как социальная философия. В то время я придерживался довольно левых взглядов и поэтому решил, что обязательно нужно писать о Лукаче. Для меня был очень важен не только его переход к марксизму, но и его опыт изгнания. Интуитивно я решил сравнить его с Бахтиным, даже не подозревая, насколько продуктивным окажется это сравнение. Я не знал, что Бахтин следил за работами Лукача, что многое в бахтинской теории романа построено на архитектурном плане теории Лукача. Прежде всего я говорю о незыблемой оппозиции эпоса и романа, которая работает у обоих авторов, но часто с противоположными знаками.
— Как преподавалась литературная теория в Болгарии в 1980-е годы?
— Я учился в Софийском университете с 1985-го по 1990 год. Безусловно, этот университет был самым продвинутым в Болгарии. Литературная теория преподносилась довольно консервативно. Консервативность — не обязательно отрицательная характеристика, здесь она является скорее синонимом систематичности. Мы начинали с Аристотеля, подробно останавливались на немецких романтиках, а потом шли русские формалисты. Хронологически наш курс практически завершался на пороге Второй мировой войны. Современные теоретические работы оставались за скобками. Мы читали работы западных авторов, но не в университете, а самостоятельно или на более неформальных занятиях. О Деррида и деконструкции нам впервые рассказали в 1990 году, уже на факультативном спецкурсе, который не предполагал экзамена в конце семестра. О герменевтике и Гадамере я впервые услышал 1988 году на неформальном кружке.
— А что насчет марксистской теории?
— Это было то, что Элиот назвал «бесплодной землей». Марксизм преподавали неинтересно, в официальной версии, и даже не заставляли по-настоящему изучать Маркса или Гегеля. Никто не говорил о настоящем интеллектуальном приключении, которое ждало человека, решившего погрузиться в марксизм.
— Ваша последняя книга называется «Рождение и смерть литературной теории», в ней вы связываете закат теории с изменением статуса самой литературы в современном мире. Чем в таком случае может быть полезно литературно-теоретическое наследие XX века сегодня?
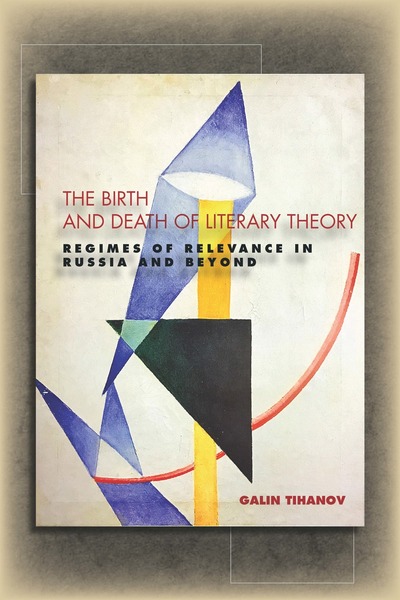 — Многие рецензенты, откликнувшиеся на выход этой книги, не сразу поняли, что рефлексия над литературой не исчерпывается теорией. Теория — всего лишь исторически сложившийся модус мышления. Это я и демонстрирую в книге. В эпилоге я рассматриваю то влияние, которое литературная теория продолжает оказывать на культуру даже после своей смерти. Пример — очень влиятельный англосаксонский дискурс мировой литературы. Мировая литература — это определенная оптика, в которой литература рассматривается прежде всего с точки зрения ее способности преодолевать культурные, языковые и политические границы благодаря переводимости. Теоретические основания такого оптимизма восходят к классической литературной теории — в первую очередь к работам Шкловского, который мыслил литературность как переносимое свойство и в этом расходился с Якобсоном.
— Многие рецензенты, откликнувшиеся на выход этой книги, не сразу поняли, что рефлексия над литературой не исчерпывается теорией. Теория — всего лишь исторически сложившийся модус мышления. Это я и демонстрирую в книге. В эпилоге я рассматриваю то влияние, которое литературная теория продолжает оказывать на культуру даже после своей смерти. Пример — очень влиятельный англосаксонский дискурс мировой литературы. Мировая литература — это определенная оптика, в которой литература рассматривается прежде всего с точки зрения ее способности преодолевать культурные, языковые и политические границы благодаря переводимости. Теоретические основания такого оптимизма восходят к классической литературной теории — в первую очередь к работам Шкловского, который мыслил литературность как переносимое свойство и в этом расходился с Якобсоном.
После смерти теории мы можем читать теорию, освободившись от ее тирании, от тоталитарной тенденции, которая присуща не только марксистской, но и всякой теории. Теория рассматривает различные явления, не отдавая себе отчета в собственной ограниченности, обусловленной тем, что она всегда укоренена в определенном социальном и культурном контексте.
— Вы упомянули о дискурсе мировой литературы. Как бы вы определили это понятие?
— Для меня мировая литература — это неравномерное и асимметричное взаимодействие различных литератур мира. Это процесс, в который включены не все литературы одновременно, а разные литературы в разное время. Важно понимать, что кроется за этой асимметрией. На Западе, например, начали серьезно интересоваться китайской культурой и литературой в XVI веке (в России, скорее всего, со второй половины XVIII века), а в Китае начали интересоваться Шекспиром и Гете только в конце XIX века. Впервые Гете был упомянут на китайском в 1878 году, причем не в самом Китае, а в речи китайского дипломата, который находился на Западе. Шекспира впервые перевели на китайский (причем прозой) в конце XIX — начале XX века. Если посмотреть на это с точки зрения миросистемной теории Валлерстайна, мы сразу скажем, что Китай отставал от Запада — в том числе из-за того, что начиная с 1840-х годов он был полуколонией. Поэтому более продвинутый Запад раньше заинтересовался Китаем и начал усваивать плоды его культуры. Такой подход не учитывает то, что, согласно историко-экономической статистике Мэддисона, как раз к концу XVI века Китай в экономическом плане был гораздо более развит, чем Запад: стоимость его совокупного продукта к 1600 году была выше совокупного продукта всех западных стран и России вместе взятых. Но, конечно, такой подход не учитывает китайскую точку зрения также и в культурно-цивилизационном плане. Традиционно даже во времена экономического упадка китайцы считали свою культуру утонченной и самодостаточной и были убеждены, что иностранцы не в состоянии понять, например, совершенство и сложность классической китайской поэзии, написание которой предполагает соблюдение множества разных (в зависимости от стиля, жанра и так далее) правил. В Китае культивировалось представление об уникальности и центральном значении классической китайской культуры. Поэтому если мы не хотим превратить мировую литературу в плоскую литературную карту мира или скучную энциклопедию, мы должны помнить о неравномерности, асимметрии и исторической изменчивости, которые далеко не всегда обусловлены экономическими факторами.
— Если теория — не единственный способ размышлять о литературе, то какие новые способы приходят ей на смену? И как эти новые способы связаны с теми политическими и социальными процессами, которые мы наблюдаем сейчас?
— То, что пришло на смену теории и сделало ее существование в чистом виде уже невозможным, — это своеобразное возвращение утилитарного подхода к литературе и искусству. Прежде речь шла о специфических чертах литературы, а теперь фокус сместился на индивидуальное удовольствие и терапевтический эффект чтения, а также на ту роль, которую она играет в политике идентичности. В XIX веке на литературу тоже смотрели с утилитарной точки зрения: она была инструментом создания национальной культурной идентичности, играла важную роль в общественных дискуссиях о свободе, равенстве и так далее. Сейчас это коллективное измерение утилитарности возвращается в ином виде. Литература сегодня конструирует групповые идентичности (часто речь идет о меньшинствах, которые сталкиваются с дискриминацией). Эти люди хотят заявить о себе, быть услышанными, и это — их священное право. Но что особенно важно, литература перестала быть самоценной, ее читают и преподают (я замечаю это в американских и британских университетах) только в качестве иллюстративного материала для обсуждения различных политических, социальных, экономических процессов и вопросов, связанных с проблемами морали или идентичности. Мы перестаем обращать внимание на условность литературы, на ее фикциональность.
— Когда мы говорим о культурных войнах и идентичности, встает вопрос о каноне, в котором не представлены многие группы населения. Возьмем школьную и университетскую программу по русской литературе, почти полностью состоящую из пресловутых белых мужчин. Вы видите в этом проблему? И если да, то как ее можно решить?
— Да, такая проблема существует, и в Англии она глубже, чем в России. В Англии происходит деколонизация канона. Его пересматривают не только в гендерном и этническом плане, но и с точки зрения колонизаторов и колонизируемых. Эта полемика связана с начавшимся в 1980-е годы пересмотром того консенсуса, на который опиралась западная культура и само понятие канона. Если взять гендерный признак, то в Англии дела обстоят не намного лучше, чем в России. Какое место занимают женщины в английском каноне? Например, XIX век: в голову приходит в лучшем случае пять имен, не более. В XX веке у вас будет Вирджиния Вульф и еще несколько имен.
Между теорией и каноном есть важная связь. Теория претендует на то, что она формулирует универсальные суждения о литературе. Для этого ей нужны универсальные примеры, которые можно брать только из канона. Эволюция литературной теории шла рука об руку со становлением и закреплением литературного канона — как на Западе, так и в России. Кризис теории в 1980-е годы совпал с кризисом канона. Любая крупная литературная теория XX века построена на примерах из канона. Даже когда Бахтин говорит о народной культуре, карнавале, стихии массовых праздников, в качестве отправной точки он берет роман канонического французского писателя.
Проблема канона в том, что он консервативен по своей дискурсивной архитектуре. Труднее попасть в канон, чем быть исключенным из него. У нас накопилось множество новых сведений об английской литературе, мы прочитали множество забытых произведений, но оказалось, что те, кого мы и так знали, — это и есть лучшие авторы. Канон — это конструкт, созданный под влиянием различных социальных, политических и культурных факторов. Но из-за того, что канон создавался именно в тот период, когда литература рассматривалась прежде всего через призму ее эстетической и дискурсивной специфики, в него вошли наиболее выдающиеся с эстетической точки зрения произведения. Примат эстетического был положен в основу этого чудовищного здания.
Само представление о литературе как о части высокой культуры — исторический продукт. До конца XVIII века, до романтиков, никто не думал так о Шекспире или Сервантесе. Это была в основном литература досуга, а романтики превратили ее в то, что теперь называется «большой литературой». Прежде всего это связано с тем, что изменилось место литературы на рынке культурных ценностей. Именно романтики ввели понятие оригинальности и начали акцентировать внимание на том, что настоящая литература не похожа на другие тексты. Шекспир часто воровал сюжеты, но для романтиков он был оригинальным автором, не вором, а гением неподражаемого языка и индивидуально-ситуативного психологизма. Меняется шкала ценностей, возникает представление о том, что уникальность большой литературы гарантирует ей бессмертие. С этого момента и начинается построение модерного канона.
Двести лет спустя, когда литературу перестали рассматривать как специфический, незыблемый и оригинальный дискурс, начался кризис канона, а сегодня уже само понятие «большая литература» стремительно теряет смысл. Разрушение канона связано не только с законными требованиями непредставленных групп, но и с тем, что исчезла та оптика (установка на дискурсивную специфику литературы и ее неподражаемость), которая делала возможным существование канона и само представление о «большой литературе».
— Деколонизация канона происходит по всей Западной Европе?
— Прежде всего в Англии. В Германии этот процесс не столь интенсивен. Германия, конечно, была колониальной империей, но относительно недолго, ей пришлось отдать свои колонии после Первой мировой войны. Неслучайно, что германской постколониальной теории так и не сложилось. Ее разрабатывали в первую очередь англоязычные исследователи, хотя франкоязычные авторы также внесли очень важный вклад, особенно на ранних стадиях.
 Китайское издание «Гамлета», 1922
Китайское издание «Гамлета», 1922
— В упомянутой выше книге вы много говорите о том, что литературная теория развивалась, пересекая границы. В качестве примера вы приводите рецепцию работ Бахтина во Франции и подчеркиваете, что большую роль сыграли усилия Юлии Кристевой, которая сближала бахтинские идеи с постструктурализмом. Всегда ли необходимы такие встречные течения, чтобы теория была воспринята на новом месте?
— Да, я думаю, что такие встречные течения необходимы. Основную роль в данном случае сыграла именно Кристева, а не Тодоров, хотя он тоже писал о Бахтине в то время. Именно Тодоров в 1965 году составил первую на Западе антологию русских формалистов. Вообще первой должна была стать антология, которую подготовили молодые литературоведы в Польше в 1939 году. Двое инициаторов этого проекта погибли во время Второй мировой войны. Как и в случае с парижской антологией, в составлении списка текстов участвовал Якобсон. Все было готово к публикации, но началась война...
Когда Барт пригласил Кристеву выступить на его семинаре и рассказать о Бахтине, она поняла, что необходимо изобрести другого Бахтина, чтобы он был востребован во Франции. Бахтин, сопряженный с понятиями интертекстуальности и психоаналитического дискурса, — это уже «живучий» Бахтин. Чтобы заинтересовать парижских интеллектуалов, нужно было протащить Бахтина через психоанализ, семиотику и интертекстуальность. Кристева это и сделала, причем довольно радикально, даже безответственно с точки зрения филолога, который строго следит за тем, чтобы не исказить исторически заданный смысл слов. Иногда, чтобы дать мыслителю вторую жизнь, нужно переартикулировать его идеи на новом языке. В известном смысле мыслители, как и писатели, живы до тех пор, пока их наследие плодотворно переиначивается.
— То, о чем мы говорим, тесно связано с понятием космополитизма, которому, насколько я знаю, вы посвятили книгу, и она в скором времени должна выйти в серии Very Short Introductions издательства Oxford University Press. Написать о таком кратко — задача не из легких. На каких основных моментах вы акцентируете внимание?
— Вы правы, очень трудно написать маленькую книгу. Думаю, важнее всего то, что космополитизм — неоднородное понятие, хотя мы часто не отдаем себе в этом отчета. Я выделяю две версии космополитизма: культурный и политический. Космополитизм невозможен без признания различий, он отличается от универсализма тем, что не стремится сделать весь мир одинаковым. Культурный космополитизм делает акцент на уникальности культур, выражением которых часто является язык, он пытается плодотворно радикализировать различия, а не смягчать их. Политический космополитизм также признает существование различий, но стремится их урегулировать, добиться того, чтобы эти различия были сопряжены со всеобщим признанием базового принципа: уважения человеческого достоинства и проистекающих из этого прав.
Возьмем культурный космополитизм. Здесь архетипическая фигура — это Гердер. Он начинает с того, что есть разные культуры, к которым он подходит почти антропологически, и есть механизм перевода, который должен стать посредником между ними. С точки зрения Гердера, задача космополитизма состоит в переводе без утраты специфики, заданной соответствующей культурой и языком. В случае политического космополитизма исходный пункт для меня — Кант и его сочинение «К вечному миру». Большинство комментаторов до сих пор рассматривают этот текст как изложение морального императива, сформулированного Кантом: во всем мире должно защищаться человеческое достоинство, каждый должен приниматься везде как уважаемый гость, не имея, однако, права остаться в другой стране навсегда. Сегодня мы думаем о беженцах и говорим, что они должны иметь возможность получить гражданство другой страны — в этом смысле многие считают Канта недостаточно радикальным. Но с исторической точки зрения для конца XVIII века это была прогрессивная мысль. Это означало, что колонизаторы тоже не имеют права просто так оставаться в Индии или в Латинской Америке.
В этой работе Кант разграничивает международное и космополитное право [ius gentium и ius cosmopoliticum соответственно; последнее принято переводить на русский как всемирно-гражданское право. — К. М.]. В международном праве мы имеем равные с юридической точки зрения государства, которые взаимодействуют друг с другом. Космополитное право оперирует двумя неравными субъектами, между которыми существует принципиальное различие. Это право регулирует отношения государства и человека, который не является гражданином этого государства. Если бы я приехал в Москву, то был бы субъектом кантовского космополитного права, поскольку у меня нет гражданства. Кант не стирает это различие, но смягчает его, настаивая на том, что в любой точке мира человек имеет право на достойное обращение, оставаясь гостем.
В последние двадцать — тридцать лет мы часто сталкиваемся с противопоставлением так называемого космополитизма «сверху» и космополитизма «снизу». Космополитизм «сверху» — это международное право, ООН и так далее. Космополитизм «снизу» — это книги на разных языках, которые мы читаем, наши поступки, путешествия и размышления. При этом мы можем даже не покидать дома. Кант прожил свою жизнь в Кенигсберге, небольшом городе, но при этом писал и размышлял о космополитизме. Космополитизм «сверху» нормативен. Космополитизм «снизу» — это образ жизни, он ситуативен. Такое разделение проводили и до меня, но важно понимать, что оно проистекает именно из существования двух типов космополитизма: политического и культурного. Я настаиваю на том, что эти два типа космополитизма не совпадают друг с другом и мы должны отдавать себе в этом отчет: в 1930–1940-е годы в Европе вы могли вечером быть утонченным и превосходно образованным космополитом, который разговаривает на разных языках и слушает дома далеко не только Вагнера, а утром — убивать евреев.
