Ленин ползет на крышу, Брежнев умирает, а Петросян страдает
Три поэтические новинки сентября
Даниил Да. Гимотроп. М.: Humulus lupulus, 2019
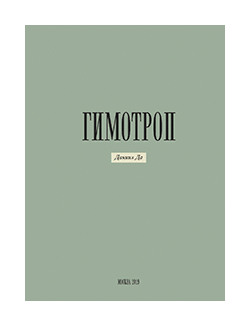 Московский по месту жительства, но сочинский по рождению и духу поэт Даниил Да стал известен широкой публике (относительно широкой — не будем обманываться насчет величины поэтической аудитории) в 2015 году, когда попал в короткий список премии Андрея Белого. До этой даты, однако, была долгая биография в поэзии и искусстве, разработка приемов, которые в полной мере сказались в «Гимотропе».
Московский по месту жительства, но сочинский по рождению и духу поэт Даниил Да стал известен широкой публике (относительно широкой — не будем обманываться насчет величины поэтической аудитории) в 2015 году, когда попал в короткий список премии Андрея Белого. До этой даты, однако, была долгая биография в поэзии и искусстве, разработка приемов, которые в полной мере сказались в «Гимотропе».
Название сборника пришло из курьезного стихотворения Леонида Брежнева: в 1927 году будущий генсек, в то время — полуграмотный молодой рабочий маслобойного завода, написал стихи на смерть советского дипломата Вацлава Воровского. «Это было в Лозане, где цветут гимотропы, / где сказочно дивные снятся где сны. / В центре культурно кичливой Европы, / в центре красивой как сказка страны». Для заинтересовавшихся продолжением есть гугл, а мы продолжим про Даниила Да. Дело в том, что Брежнев в этом сборнике что-то вроде доброго гения, домашнего божества-лара. Небывалый гимотроп, плод союза поэзии Северянина и Вертинского с ухом курского рабочего, — это почти что символ. Он, пожалуй, близок к экзотическому цветку тоталитаризма, про который любит говорить Владимир Сорокин, но в то же время саморазоблачителен, как всякое «сиськи-масиськи» и «сосиски сраны». Вроде должно быть страшно (у Брежнева, на минуточку, была под рукой ядерная кнопка), но нет:
Алый клюв пеликан
Раззевает зело,
Выпуская на нас
Крепостных недовольных
Бессильное зло,
Расточительный газ.
На волне радиолы
Поет соловей.
Ядовитый озноб.
И под шелест тяжелый
Ветвистых бровей
Вновь растет гимотроп.
Это «вновь» можно, конечно, трактовать как возврат неказистой позднесоветской тоталитарщины («мои брови жаждут крови»), но в других текстах тревога снимается или видоизменяется. Например, в стихах о раннем детстве Брежнев становится частью успокоительного окружения: «Добрый Брежнев, плюшевые брови / Дедушка в пижаме голубой / Дачкой летней, где-то на балконе / В перелесок щурится совой». Смерть же Брежнева приходится на десятилетие поэта — возраст, скажем так, более экзистенциальный; кода этой темы в «Гимотропе» — ода «На смерть Брежнева». Она заканчивается мандельштамовской реминисценцией: «…благословляет / Из-под земли жующий губы Брежнев» (не пародия и не издевка, а, что ли, постирония), а перед этим взрослый повествователь, прибегая к нарочитым аберрациям, вспоминает печальное событие:
Уроки кончились до наступленья снега
И кипарисы карликами стали.
Над всей страной возвышенная нега
Сменилась волнами осознанной печали.
Морская галька грозно грохотала
О волнорез у пляжа «Заполярья».
Вороны с клювами из черного металла
Закрыли крыльями круг огненный, солярный,
Схватили мой портфельчик, где тетради,
И унесли в прекрасное далеко.
И Петросян, кривляясь на эстраде,
За сердце взявшись, взвыл: «Как одиноко!»
В конце концов, бог с ним, с покойным генсеком: кипарисы и галька гораздо важнее, и все жуткие, одические и балладные признаки тут смягчены — так действует ноябрьский климат Сочи. Не хотелось бы, чтобы читатель решил, будто «Гимотроп» — книга про Брежнева. И не только потому, что тут есть и Сталин, и Ленин (превращающийся в кого-то вроде старика Козлодоева: «Лезет к вам из прошлого с приветом / Жаром страсти движимый Ильич»). На самом деле «Гимотроп» — ностальгический гимн миру, который всегда был у русской поэзии под боком, но попадал по большей части в шансон про шашлычок под коньячок. В сочинских декорациях гораздо уместнее отсылки к символизму — причем не к настоящему, а к символизму понарошку: стихи Даниила Да порой звучат как продолжение знаменитых пародий Владимира Соловьёва, тех самых, где «мандрагоры имманентные» и «ослы терпенья и слоны раздумья». Это тонкая игра с наивом (нарочно спутать фавна с мавром), с безудержной и любовной романтизацией обыденности. Вот, например, стихотворение из обширного сочинского цикла «Южная ночь»:
Встань в полтретьего, выйди из дома,
Мимо баков помойных пройди.
Огоньком нелюбви незнакомым
Тлеет сердце в груди.
Кто скривил эти дивные пальмы,
Кипарисы согнул не щадя,
Кто собак посадил у хинкальной
Наблюдать как едят?
Шевельнется в кустах лавровишни,
Подгибая натруженный ласт,
Человек, перекачанный лишним,
Побежденный схоласт.
Полыхнет беспокойное око
И в вершинах далеких холмов
Станет эхо неслышное охать,
Удивляясь само.
Сквозь решетку протянет к дороге
Свою голову длинный павлин
И завоют в тоске осьминоги
Из разбитых витрин.
Все ощущения тут обстоятельны, насыщены деталями, топографией — и как бы предугаданы заранее («шевельнется», «полыхнет», «станет»). Собственно, в роли Сивиллы — большая русская поэтическая традиция, которую Да прекрасно знает и не без иронии использует. В книге можно обнаружить ритмические отсылки к Пастернаку, Поплавскому, Тютчеву: «Есть в котике зеленоглазом / Довольно неприятная черта…». Котик — еще один сквозной персонаж книги, олицетворение домашнего, слегка клаустрофобного уюта, которому противопоставлен неприятный мир мегаполиса («Гольяново скалится нервное»). Но московские и «отвлеченные» стихи, в основном написанные в 2016–2017 годах, по сравнению с сочинскими немного проседают, порой кажутся автоматическими. Подлинная распевность у Даниила Да там, где «лишь торговец мандарином / Зыбкий замочив товар, / Под чинаром благочинным, / Кудри кутая в овчину, / Смотрит на янтарный шар». Перед нами тексты, написанные будто по заветам умозрительной поэтической теории малых дел, а поскольку это теория не самая оригинальная, роль играет мастерство воплощения. Книга Даниила Да сделана умно и непринужденно и благодаря этому вызывает искреннюю симпатию.
Марина Тёмкина. Ненаглядные пособия / предисл. Е. Фанайловой. М.: Новое литературное обозрение, 2019
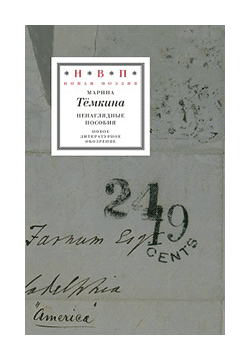 Для русской поэзии Марина Тёмкина — одна из открывательниц феминистской оптики. Ее тексты не радикальны, как у Оксаны Васякиной или Лолиты Агамаловой, а скорее ироничны, но говорится в них о вполне серьезных вещах. Зачастую это поэтические каталоги: Тёмкина перечисляет не только традиционно выпадающие на долю женщины невзгоды и ограничения («Ой, не меня ли учили не жаловаться, не говорить, / что это несправедливо, что это просто неправда, / не обращать внимания на насильников, на садистов, / на психов, на деспотов и убийц, не идти в милицию…»), но и состояния, категории; оппозиции, в которые вступает женщина на протяжении жизни:
Для русской поэзии Марина Тёмкина — одна из открывательниц феминистской оптики. Ее тексты не радикальны, как у Оксаны Васякиной или Лолиты Агамаловой, а скорее ироничны, но говорится в них о вполне серьезных вещах. Зачастую это поэтические каталоги: Тёмкина перечисляет не только традиционно выпадающие на долю женщины невзгоды и ограничения («Ой, не меня ли учили не жаловаться, не говорить, / что это несправедливо, что это просто неправда, / не обращать внимания на насильников, на садистов, / на психов, на деспотов и убийц, не идти в милицию…»), но и состояния, категории; оппозиции, в которые вступает женщина на протяжении жизни:
между мной и моими близкими,
между мной и моим сыном,
между мной и моим спутником жизни,
между мной и моей занятостью,
между мной и моим отсутствием времени
Отсюда вырастает более общая проблематика, ключевая в «Ненаглядных пособиях»: это проблематика идентичности. Она манифестируется открыто — открыто же предлагаются варианты ответа, пути решения. Для Тёмкиной важно конфессиональное, автобиографическое письмо; из стихов мы узнаем о ней больше, чем из любой биографической статьи. Непреодолимый зазор между автором и образом автора как раз и заполняется объяснениями: почему я именно такая и пишу именно так. Вот программный текст об этом:
В Америке принято спрашивать: «Вы какой поэт?»
В 80-ые можно было услышать от вполне приличных людей
с образованием: «Я поэт-сюрреалист».
От неожиданности я не могла удержаться от смеха.
Они обижались: «Это не шутка, это серьезно».
Как если бы мы сказали, что мы латинские поэты,
или акмеисты, или поэты-метафизики.
Сначала я думала, что они действительно без комплексов
старых культур, потом поняла, что у них другие правила игры,
но долго не умела ответить, какой я поэт. Теперь запросто
отвечаю, что я поэт политический, постсоветский,
эмигрантский, русско-еврейский, феминистский,
испытавший влияния футуризма, афроамериканской поэзии
и Нью-Йоркской конкретной школы 60-х.
С одной стороны, поэт готов смотреть на себя сквозь фильтр социальности, подавать себя через этот фильтр. С другой — поэт понимает, что это «правила игры», и сам факт рефлексии свидетельствует, что они не до конца приняты. Больше того, принадлежность к какой-то категории — штука ненадежная, она значит или слишком много или слишком мало. Тут можно привести в пример огромный текст «Комиксы на этнические темы», в котором Тёмкина рассказывает, что среди «нас, евреев», есть легкомысленные и прагматичные, воры и праведники, проститутки и военнослужащие, миллионеры и нищие, инвалиды всех групп, рыболовы, дачники, кандидаты наук, парикмахерши — и так далее.
Интереснее вот что. Под стихотворением «В Америке принято спрашивать…», как и под многими другими, стоит пометка «Автоперевод». Если бы пометки не было, читатель едва ли отличил бы русский родной от русского переводного. Тёмкина действительно стала американским поэтом, пишущим по-русски. У нее встречаются даже калькированные с английского обороты:
«Может быть, возвращается из психбольницы домой,
где ее вряд ли хотят обратно».
Этого, как бы утверждает Тёмкина, можно не стесняться: такие процессы естественны, она пишет тем языком, какой у нее есть, и подобные «нормальные лингвистические ошибки» сама замечает: «„Глазные стекла от солнца” — / говорит, имея в виду солнечные очки». Вообще «Ненаглядные пособия» пробуют на растяжение расхожее представление о поэтической речи: стихи загромождены терминами («Перед сном представляю / летний пейзаж перед домом, медитативная визуализация…»), подчеркнуто прозаическими конструкциями, а в разделе «Кантаты и трактаты» переходят просто в почти-прозу, с абзацами, отступами, с довольно иллюзорным разбиением на строки.
Скептик мог бы хмыкнуть: возможно, Тёмкина просто не умеет работать с традиционной, старорежимной русской просодией, которая все предубеждения способна искупить сладкозвучностью? Но это, конечно, не так: в книге есть тексты если не «традиционные», то написанные с оглядкой на «традицию». Это, правда, скорее стихи-безделки, в них ощутимо легкое пренебрежение: я так умею, но мне это неинтересно. От рифмы иногда приходится буквально отмахиваться (как в стихотворении «Элегическое», где Тёмкина пытается проанализировать, что стоит за мужскими любовными аффектами). Что касается традиционных для лирики тем и жанров, здесь можно отослать читателя к циклу «Надписи под калифорнийскими фотографиями» или к нескольким стихотворениям памяти Иосифа Бродского, чьим литературным секретарем была Тёмкина. Бродский, судя по всему, оказал на Тёмкину большое влияние как личность — но ее стихи ему не наследуют примерно ни в чем.
«Ненаглядные пособия» — что-то вроде поэтического автофикшена. Если такой жанр и существует, то он, конечно, в первую очередь западный. Отрыв от русского языка как культурной матрицы запечатлен в одном из «речитативов для женского голоса»: «Моя жизнь как процесс отделения от матери, / от материнского языка, / его гендерных и этнических предубеждений». Тут стоит заметить, что фигура матери в автобиографическом нарративе Тёмкиной очень важна: мать предстает как фигура несвободы, запрета, ее сдерживающая власть продолжается даже после ее смерти. В книгу входит эссе «Обзор рецензий на книги о браке Льва Николаевича и Софьи Андреевны» (такие отступления для автофикшена тоже в порядке вещей). Супруги Толстые — модельная пара, она все чаще возникает в феминистском дискурсе, герметичность их истории все чаще размыкают исследователи (не в комплиментарном для Л. Н. Т. свете). Но вот у Толстого диагностируется «нераскрытый и неизжитый конфликт отношений с матерью» — и нам будто брошена зацепка. Все сказанное имеет к автору прямое касательство. Иначе бы автор этого не говорил.
Владимир Лукичёв. Логии Ø. М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2019
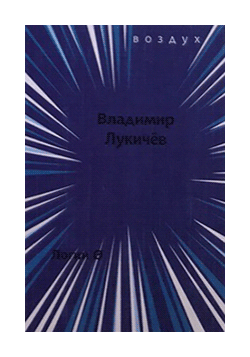 Поэт, обращающийся к математике, склонен наделять ее абстракции метафизическим смыслом. Символ Ø — математический, он означает «пустое множество», то есть множество, в котором не содержится ни одного элемента. Такое множество входит во все прочие множества — другими словами, во всем есть ноль. Логиями же называются изречения Христа, сохранившиеся в древних источниках помимо Евангелий.
Поэт, обращающийся к математике, склонен наделять ее абстракции метафизическим смыслом. Символ Ø — математический, он означает «пустое множество», то есть множество, в котором не содержится ни одного элемента. Такое множество входит во все прочие множества — другими словами, во всем есть ноль. Логиями же называются изречения Христа, сохранившиеся в древних источниках помимо Евангелий.
В книге Владимира Лукичёва нам, таким образом, предлагается иметь дело с изречениями пустоты — или присутствовать при констатации: у пустоты никаких изречений нет и быть не может. «Пустеют / артерии логоса» — вот что происходит, когда человек уходит побежденным: «умирает еврей умирает араб умирает арий / умирает бог умирает автор / и человек умирает». Последнее же стихотворение книги, нарочито конкретное на фоне всего остального, завершается как манифест:
и все что до этого было снег
и после этого все было снег
и белизна степи накрывала век
а все-таки
есть человек
Ведь, собственно, только человек и способен что-то осмыслить, приписать чему-то способность говорить; стоит человеку исчезнуть, любое множество станет пустым. Это не тщеславие, а антропный принцип (ну и, да, немного тщеславие). Можно сказать, что «Логии Ø» — попытка задержать логос; в одном из текстов недаром, как заклинание, повторяется имя Гераклита. Задействуя разные значения одних и тех же слов, переназначая части речи, поэт показывает работу опустошения:
Сегодня как никогда важно мыслить о человеке
как никогда важно мыслить
мыслить как никогда
пожирает сегодня
Возникает соблазн считывать в этом ключе — как сигналы о приближении небытия — все стихи книги, но это будет неверно. Многие тексты располагаются как бы на полях этой темы. «жизнь проходит пригнув голову / под скрещенными …... правителей / укрыв в руках / злак смерти / раскисший / но ещё принадлежащий» — здесь небытие даже желанно, потому что чересчур уж противно бытие, его монументальная оргия. Жизнь может укрыть от правителей смерть — как свое неотъемлемое право. В других стихах Лукичёв исследует не пустоту, а шум — но, возможно, между ними можно поставить знак тождества. В книге встречаются энигматические отрывки, где чтение затрудняют неологизмы и варваризмы: «Удар пространства в пять сияющих кадем // морозный пар / гилт искренности солнца // надпои глаза». Предпоследний раздел, «Идеограммы и артефакты», состоит из совсем коротких стихотворений, в которые брошены семена обессмысливающего гула, белого шума. Есть в книге и остраненные египетские пейзажи. Они описаны с помощью барочных метафор на грани абстракции — но вдруг за каким-нибудь «власти солнечным мифом, / прибитым к доскам речи» выныривает нечто абсолютно зримое. Как флажок посреди пустыни, на который волей-неволей смотришь:
фосфором выдыхает ночь сквозь теплые белые камни
бараков
и пустыня жалит детей в колени седые от пыли
проникая багровую тряпку
хранящую крошки хлеба и меди
Эта поэзия невротична: та же пустыня — пространство, на первый взгляд, визуально элементарное — тянет в стихотворение вереницу культурных и философских ассоциаций. Термины из области логики, лингвистики, семиотики — все это инструменты, с помощью которых пытается уловить логос постдрагомощенковская генерация поэтов. Лукичёва (в чьей книге есть стихотворение, обращенное к памяти Драгомощенко) наверное, можно отнести к старшим представителям этой генерации. Но, отдавая должное «паратаксису», «перцептивной структуре субъекта», «когнитивным актам», он пользуется и приемами совсем другого направления современной русской поэзии — «нового эпоса». В его стихах часто появляются персонажи: «замаранный Тобиас», «некто введенский», «мейстер Окулюс», «она», даже «я». И — странное дело — именно эти персонажи служат гарантами того, что логос еще немного задержится, а из пустого множества в самом деле донесутся какие-то изречения. Посмотрим, как это работает:
Во всем этом мраке должно наконец обнаружиться что-то такое
что каждый хранит о себе
для тебя
напевает Эстель
Первая фраза повисает в воздухе, тычется в пустоту местоимениями. Стоит появиться названному по имени персонажу, как фраза обретает теплоту и окраску. В конечном итоге нам важен контекст, каким бы эфемерным он ни был. Кажется, в этом пафос книги Владимира Лукичёва — пробивающийся через противоречия, шумы и пустоты.