Хайнц Д. Курц. Краткая история экономической мысли. М.: Издательство Института Гайдара, 2020. Перевод с немецкого Н. Автономовой
Общество мертвых экономистов
Для российского читателя повод не пройти мимо бессчетного краткого курса истории экономических учений содержится уже в предисловии к книге, где Хайнц Курц рассказывает о своих юношеских впечатлениях от прочтения «Преступления и наказания» и своей преподавательнице русского языка — эмигрантке первой волны. «Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать» — эти слова из романа Достоевского Курц берет за основу своего экскурса, начинающегося по традиции с древнегреческой философской классики.
Еще одним эпиграфом к книге выступает цитата из Джона Мейнарда Кейнса: «Идеи экономистов и политических мыслителей — и когда они правы, и когда ошибаются — имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром» (к этому можно добавить еще одно, даже более известное высказывание Кейнса: «Практичные люди, считающие себя свободными от какого-либо интеллектуального влияния, обычно находятся в плену у какого-нибудь усопшего экономиста»).
Тем самым Курц отвергает альтернативное представление, согласно которому история экономической мысли есть не что иное, как мертвые теории мертвых авторов. Именно такой точки зрения придерживался английский экономист кембриджской неоклассической школы Артур Сесил Пигу, ученик Альфреда Маршалла. Похожие идеи высказывал современник и коллега Пигу по Кембриджу, один из основателей аналитической философии Альфред Норт Уайтхед. «Наука, которая не решается забыть своих основателей, погибла» — это высказывание Уайтхеда Курц процитировал в статье 2006 года «Куда идет история экономических учений: медленно двигается в никуда?» (по-русски опубликована в 2008 году в «Вестнике СПбГУ»), а в конце ее пришел к безрадостному выводу: «Историки экономических учений являются вымирающим видом».
Спустя десять лет, под занавес своей научной карьеры, Хайнц Курц, разменяв восьмой десяток, решил представить собственную версию истории своей дисциплины, причем в максимально лаконичном изложении. Последнее обстоятельство определяет как сильные, так и слабые стороны книги Курца. С одной стороны, в ней упоминаются десятки имен ключевых экономистов далекого и недавнего прошлого, а также ныне здравствующих ученых, и как некая общая разметка поля экономической теории книга Курца, несомненно, поможет тем, кто начинает изучать эту дисциплину. С другой стороны, объем книги явно не соответствует масштабу материала — главы о некоторых экономистах или теориях напоминают скорее развернутые энциклопедические статьи, а там, где в некоторых случаях напрашиваются развернутые комментарии, они попросту отсутствуют.
Например, излагая знаменитую теорию сравнительных преимуществ во внешней купле-продаже, сформулированную Рикардо на материале взаимной торговли английским сукном и португальским вином, Курц приводит ее оценку, данную одним из важнейших мейнстримных экономистов современности, нобелевским лауреатом Полом Самуэльсоном, который называл теорию Рикардо верной и нетривиальной. Однако при этом Курц ни словом не упоминает о прозвучавшей во второй половине ХХ века критике этой теории со стороны экономистов школы зависимости и представителей мир-системного анализа. Они обратили внимание на то, что растущие диспропорции между ядром и периферией глобальной экономики базируются именно на представлениях Рикардо о том, что каждая страна должна заниматься производством и экспортом той продукции, которая дает ей сравнительные преимущества. Но достаточно лишь ввести в эту теорию фактор технологической сложности продукции, как она начинает работать совершенно иначе: страны, специализирующиеся на производстве высоких переделов, имеют совершенно иную позицию в процессе глобального накопления капитала, нежели страны, торгующие сырьем или продуктами его простой переработки.
Политическая экономика vs. экономикс
Такая критика теории сравнительных преимуществ полностью соответствовала духу той дисциплины, представителями которой были «классические экономисты» Рикардо и Адам Смит — политической экономии, которая в действительности выходила далеко за рамки чисто экономического анализа. Но в середине XIX века вместе с окончательным выделением экономической науки в отдельную академическую дисциплину эта изначальная установка была во многом утрачена. И хотя в названиях кафедр, которые занимали те же Маршалл и Пигу, словосочетание «политическая экономия» сохранялось, новый — маржиналистский — подход поставил в центр дисциплины, которую все чаще называли теперь просто экономикой (economics), специфическую конструкцию экономического субъекта (economicus), руководствующегося в своих решениях рациональным выбором. Еще одним априорным допущением маржиналистов было представление о том, что экономическая система всегда стремится к равновесию. Если оказавший огромное влияние на Смита философ Дэвид Юм считал, что человек — это клубок противоречий, а его разум находится в плену страстей, экономисты-маржиналисты, отмечает Курц, занялись изучением простых, прямолинейных персонажей, которые знают, чего хотят, и эффективно преследуют эти цели доступными им средствами.
Тем не менее расхождение между траекториями политической экономии и экономикса, который в итоге и стал мейнстримом в современной экономической науке, в книге Курца не артикулировано достаточно четко. Вероятно, потому что он не склонен преувеличивать значение «маржиналистской революции», которая ассоциируется прежде всего с именем Альфреда Маршалла, чьи теоретические построения до сих пор изучают студенты-экономисты. Ключевые для маржинализма понятия предельной производительности и предельной полезности, отмечает автор, давно известны экономистам, хотя принципиальный вопрос классической политэкономии — как происходит распределение доходов в обществе — отцы-основатели экономикса попытались объяснить при помощи единственного принципа предельной производительности в применении каждого фактора производства (труда, капитала, земли). Как следствие, все доходы оказываются показателями относительной редкости соответствующих факторов, которые используются в полном объеме.
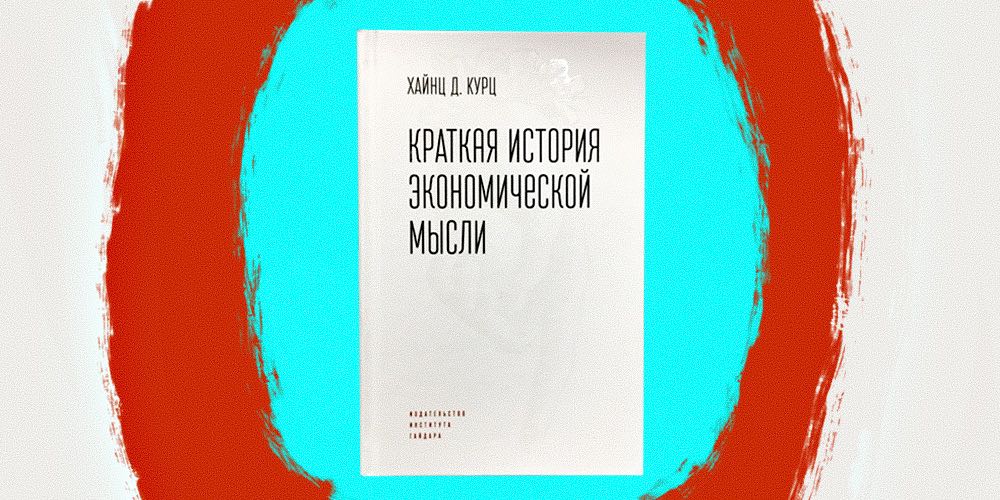 Чтобы это не звучало слишком абстрактно, можно обратиться к реалиям российской экономики, которая не демонстрирует признаков роста уже почти десять лет. Одно из объяснений того, почему это происходит, в исполнении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной звучит так: потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов низкий, потому что загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму, а в мировой экономике нет явных локомотивов роста, которые бы предъявляли спрос на сырьевые товары из России. Словом, в мире маржиналистов нет места для экономических чудес.
Чтобы это не звучало слишком абстрактно, можно обратиться к реалиям российской экономики, которая не демонстрирует признаков роста уже почти десять лет. Одно из объяснений того, почему это происходит, в исполнении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной звучит так: потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов низкий, потому что загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму, а в мировой экономике нет явных локомотивов роста, которые бы предъявляли спрос на сырьевые товары из России. Словом, в мире маржиналистов нет места для экономических чудес.
Размежевание политической экономии и экономикса привело к тому, что представители двух направлений стали говорить на разных языках и фактически игнорировать друг друга. Представители экономикса всегда с легким пренебрежением относились к своим оппонентам, особенно если те осмеливались говорить о чем-то вроде промышленной политики или протекционизма. Суть этой критики обычно сводилась к тому, что политическая экономия выходит за рамки собственно экономики, тогда как экономикс остается строго в ее рамках.
Так или иначе, альтернативные академическому мейнстриму теории, которые норвежец Эрик Райнерт, автор знаменитой книги «Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными», называет «другим каноном» экономической мысли, в книге Курца упомянуты в лучшем случае вскользь — при явно повышенном внимании к ряду авторов, которые сейчас известны главным образом специалистам. В результате, к примеру, достаточно подробно излагая теории ранних немецких маржиналистов середины XIX века (что для автора, пишущего по-немецки, более чем логично), Курц почему-то ни словом не поминает их знаменитого современника Фридриха Листа, автора книги «Национальная система политической экономии». Хотя его судьба могла бы прекрасно проиллюстрировать эпиграфы к книге Курца: покончивший с собой за два года до судьбоносных для объединения Германии европейских революций 1848 года Лист вряд ли догадывался, что его идеи, шедшие вразрез с законом Рикардо, уже очень скоро лягут в основу индустриализации стран второго эшелона промышленной революции — Германии, Японии и России.
Экономика на чужом поле
Но несомненное достоинство книги Курца заключается в том, что он ведет критику экономикса изнутри, находя уязвимые места в самих его основаниях — конструкции homo economicus и теории равновесия. Каким образом последовательное мышление в категориях экономического мейнстрима вскоре упирается в свои пределы, Курц показывает на примере траектории идей итальянца Вильфредо Парето, которого считают «своим» не только экономисты, но и социологи (при этом стоит вспомнить, что базовое образование Парето было политехническим, а его диссертация называлась «Фундаментальные принципы равновесия в твердых телах»). Его вклад в экономическую науку определяется прежде всего исследованиями принципов распределения благ — равновесное состояние экономической системы, при котором значение каждого отдельного ее показателя не может быть улучшено без ухудшения других, получило название парето-оптимума. В то же время Парето принадлежит открытие одного из главных принципов, лежащих в основе социально-экономического неравенства: 20 % населения получают 80 % дохода, а 20 % из этих 20 %, в свою очередь, получают 80 % от этих 80 % и т. д. Очевидно, что при такой диспропорции в распределении доходов не приходится говорить о равновесии в реальном мире, в котором неравенство постоянно провоцирует социальные конфликты.
Парето, отмечает Курц, знал об ограничениях, свойственных воображаемому персонажу homo economicus и всей теории равновесия, основанной на этой искусственной концепции. Он был убежден, что одна лишь экономическая наука неспособна удовлетворительно объяснить общественные явления, и с возрастом обратился к социологии, став одним из основоположников теории элит. Именно к позднему Парето, обнаружившему, что уровень ротации элит невысок, восходят расхожие представления о том, что миром в действительности правят несколько сотен семей, а также идеи француза Тома Пикетти, считающего, что одним из главных инструментов борьбы с неравенством может стать введение налогов на наследство. В книге Курца походя упоминается нашумевший недавно бестселлер Пикетти «Капитал в XXI веке», но каких-то оценок предлагаемым в нем идеям не дается, хотя Курц признает, что неравенство внутри многих стран в последнее время резко возросло — несмотря на снижение межгосударственного неравенства в глобальном масштабе, которое произошло благодаря быстрому экономическому росту таких стран, как Китай и Индия.
Далеко за рамки «чистой» экономики вышел и Кейнс. Один из главных принципов своей «Общей теории занятости, процента и денег» — люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход, — он назвал «фундаментальным психологическим законом», который шел вразрез с теорией рационального выбора для homo economicus.
Объяснение механизма экономических кризисов в книге Кейнса, написавшего свой главный труд по следам Великой депрессии, также дается в чисто психологических терминах — мотивы, ожидания (в оригинале animal spirits — животное чутье), доверие. Одновременное падение спроса вместе со снижением цен и зарплат приводит к тому, что снижается норма использования мощностей заводов и оборудования, а следовательно, у бизнеса пропадает мотивация совершать инвестиции — его ожидания не соответствуют реальной ситуации. Так запускается новый цикл падения спроса, на котором кризис накрывает должников — происходит банкротство неплатежеспособных фирм, что, в свою очередь, оказывает пагубное воздействие на кредиторов, в результате чего возникает кризис доверия по отношению к кредитополучателям. А что происходит, когда банки разом требуют вернуть долги, многие, наверное, помнят по опыту глобального кризиса 2008 года. Именно тогда об идеях Кейнса «неожиданно» вспомнили правительства по всему миру, незамедлительно перешедшие к активной экономической политике, начав заливать свои экономики деньгами, в том числе с целью поддержания рушащегося на глазах спроса, еще вчера бившего все мыслимые рекорды. Сейчас мировая экономика оказалась в похожем состоянии: ожидания компаний и инвесторов относительно будущего принципиально подорваны незваным гостем — коронавирусом, и в том, что Кейнс дал исключительно точное описание приводных ремней кризиса, можно было удостовериться, наблюдая весь год за колебаниями различных рыночных прогнозов в зависимости от перспектив очередной волны пандемии.
Назад к Смиту
«Возвращение политэкономии» — под таким названием в сентябре 2009 года проходила в московском Политехническом музее международная конференция, собравшая немало известных представителей «другого канона», включая основателя мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна, которого ортодоксальные марксисты не раз упрекали в «смитовской» ереси. Кризис 2008 года действительно потряс основы мейнстримной экономической теории, и этот момент довольно четко обозначен в книге Курца. Одна из самых ироничных ее глав посвящена весьма авторитетной в недавнем прошлом доктрине «новой классической макроэкономики», которую Курц сравнивает с построениями доктора Панглосса из вольтеровской повести «Кандид, или Оптимизм», уверявшего, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Этот подход представляет собой упрощенную версию модели общего равновесия и отталкивался от предпосылок, что все экономические агрегированные величины могут быть выведены как результат из рационального поведения агентов, все цены и факторные доходы обладают совершенной гибкостью, все рынки постоянно расчищаются, поэтому вся безработица по определению является добровольной.
Именно такие настроения возобладали в западном истеблишменте «тучных нулевых» — достаточно вспомнить знаменитую речь председателя ФРС Бена Бернанке под названием «Великое спокойствие»: он всего за три года до кризиса уверял, что мировая экономика действительно вошла в состояние бескризисного развития. А чуть раньше, в 2003 году, один из основателей новой классической макроэкономики Джордж Лукас в обращении к Американской экономической ассоциации заявил, что благодаря прогрессу макроэкономической теории «центральная проблема — предотвращение депрессии — была решена».
 «В подобном мире, где все происходит к лучшему, как экономическая политика вообще может работать, да и зачем было бы к ней прибегать?.. Таким образом, „кейнсианская политика“ получается не только не благотворной, но и просто вредной», — иронизирует Курц. Реальность, как обычно, оказалась сложнее теоретических построений, и в результате Великой рецессии, спровоцированной финансовым кризисом, новая классическая макроэкономика, признает он, упала в глазах профессионалов. Но и здесь Курц недоговаривает, фактически оставляя без внимания более широкий контекст — сложившуюся под влиянием подобных теорий идеологию неолиберализма, которая стала мейнстримом в период предшествующего большого кризиса, 1970-х — начала 1980-х годов, когда оказалось, что кейнсианские меры не всегда могут стимулировать рост стагнирующей экономики.
«В подобном мире, где все происходит к лучшему, как экономическая политика вообще может работать, да и зачем было бы к ней прибегать?.. Таким образом, „кейнсианская политика“ получается не только не благотворной, но и просто вредной», — иронизирует Курц. Реальность, как обычно, оказалась сложнее теоретических построений, и в результате Великой рецессии, спровоцированной финансовым кризисом, новая классическая макроэкономика, признает он, упала в глазах профессионалов. Но и здесь Курц недоговаривает, фактически оставляя без внимания более широкий контекст — сложившуюся под влиянием подобных теорий идеологию неолиберализма, которая стала мейнстримом в период предшествующего большого кризиса, 1970-х — начала 1980-х годов, когда оказалось, что кейнсианские меры не всегда могут стимулировать рост стагнирующей экономики.
В целом Курц не слишком последовательно связывает идеи многих экономистов с реалиями самой мировой экономики, поэтому у читателя его книги вполне может сложиться впечатление, будто экономические теории живут собственной жизнью. Например, Курц практически не уделяет внимания различным теориям модернизации, возникшим после Второй мировой войны на волне деколонизации и сделавшим экономический рост и его факторы одной из важнейших тем экономической науки. Несмотря на то что в книге есть отдельная глава о теориях роста, в ней почему-то не нашлось места ни такой выдающейся фигуре того времени, как американский ученый Саймон Кузнец, в 1971 году получивший Нобелевскую премию по экономике за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, ни многочисленным критикам теорий модернизации, показавшим, что их применение на практике может привести к результатам, прямо противоположным задуманным. Разумеется, невозможно объять необъятное, когда в твоем распоряжении всего три сотни страниц, но и здесь напрашивается все тот же вывод: «чистая» экономика, оторванная от смежных дисциплин — истории, географии, социологии, антропологии, культурологии, — мало что может объяснить в реальном мире.
Тем не менее в заключительных главах книги Курц, кажется, признает справедливость подобной постановки вопроса, обращаясь, в частности, к таким относительно новым направлениям, как пространственная экономика, экономика городов и новая экономическая география. Подход значительной части экономической теории, при котором неявно предполагается, что пространственный аспект любой экономической деятельности можно смело игнорировать без особого влияния на результаты исследований, не оправдан, констатирует Курц. Именно понимание этого обстоятельства лежит в основе таких все более распространенных понятий, как «глобальный Север» и «глобальный Юг», а также принципиального для мир-системного анализа разграничения ядра, полупериферии и периферии мировой экономической системы. Наконец, Курц напоминает и о неисчерпанном потенциале психологического подхода: еще в конце 1970-х годов некоторые ученые, неудовлетворенные ограниченным объяснительным потенциалом моделей, в центре которых находится homo economicus, вернулись к идеям Дэвида Юма и Адама Смита, результатом чего стала масса исследований в области поведенческой экономики.
Позиция историка идей не позволяет Курцу открытым текстом призвать к тому, чтобы устаревшие доктрины были сброшены с парохода современности, но смысл изучения истории экономической мысли из его книги становится предельно понятным даже несмотря на то, что ряд имен и теорий изложены в ней крайне конспективно.
«Новые знания в экономической науке создаются прежде всего из частиц старых знаний, которые мы по-новому комбинируем между собой, — резюмирует Курц. — Этот процесс воплощен в образе древа знаний, на котором постоянно растут новые ветви. Но бывает, что некоторые ветви, которые уже считались отмершими, внезапно начинают пускать новые ростки. Означает ли это, что экономическая наука сохраняет все верные и ценные идеи и отвергает все неверные и ошибочные? Является ли рынок экономических идей идеально функционирующим механизмом отбора? К сожалению, нет... Зная историю области, мы лучше можем противостоять суевериям, истерикам и чрезмерному рвению в экономических и социальных вопросах. Кроме того, история экономической мысли служит прививкой против наивной мысли о том, что привилегия ныне живущих экономистов — формулировать только верные идеи».
