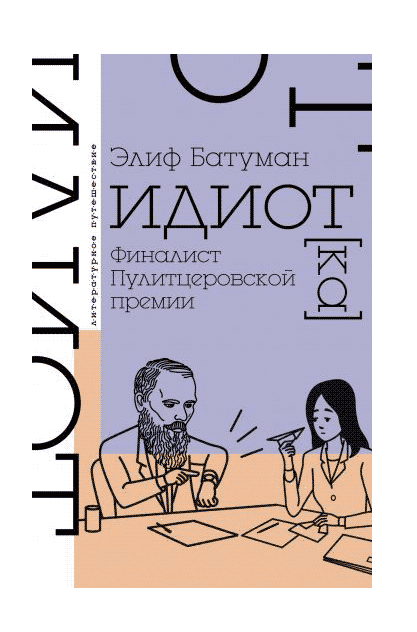 Элиф Батуман. Идиот. М.: АСТ, 2019. Перевод с английского Глеба Григорьева
Элиф Батуман. Идиот. М.: АСТ, 2019. Перевод с английского Глеба Григорьева
Элиф Батуман, американская писательница турецкого происхождения, русскому читателю долгое время была неизвестна вообще, хотя, казалось бы, ее роман — или мемуар? или сборник эссе? — «Бесы» («The Possessed» — классический перевод романа Достоевского звучит именно так), вышедший в 2010 году, буквально требовал перевода. Это рассказ о человеке, одержимом русской литературой, о начинающей писательнице, чье собственное личное путешествие в мир большого романа начинается с изучения русских писателей в Стэнфорде и через напряженное сочувственное думанье о Бабеле, Толстом и Достоевском. Несмотря на то, что изначально эти эссе публиковались в журналах вроде New Yorker, они вовсе не воспринимаются как отдельные очерки — наоборот, как цельная история писателя в поисках призвания. В начале книги Батуман вспоминает, как на писательских курсах ее отговаривали от слишком усердного чтения классических романов: мол, от этих голосов в голове потом никак не избавиться и получается постмодернизм. Но Батуман придумала форму разговора с классикой, прямо противоположную постмодернизму, где через классические сюжеты — то есть через знакомый по романам опыт — читатель оказывается способен прожить чужую жизнь.
На русском «Бесы» вышли только прошлой осенью, а почти вслед за ними появился перевод второй книги Батуман, «Идиота». Обе книги — в безупречном во всех отношениях переводе Глеба Григорьева, переводчика, известного прежде всего неофициальными переводами Пинчона. После Пинчона, очевидно, афористический стиль Батуман должен оказаться задачей плевой, и все же ее язык требует точности, в которой перевод ей ни разу не отказывает.
На английском «Идиот» вышел в 2017-м, вошел в шорт-лист Пулитцеровской премии, и, несмотря на явную отсылку к Достоевскому в заглавии, это уже гораздо более американская книжка — буквально университетский роман с сюжетом. Роман при этом автобиографический, мало того, все его события описаны в нескольких абзацах на первых страницах «Бесов», сюжет можно рассказать в одном предложении без ущерба для читательского переживания. Главная героиня, Селин, американка турецкого происхождения на первом курсе Гарварда, влюбляется в Ивана, двухметрового венгра-математика, переживает с ним короткий эпистолярный роман, несколько встреч, едет за ним в Венгрию учительницей английского. На дворе 90-е: СССР распался, а гарвардские студенты одержимы Россией, ходят на курсы русского, берут себе русские имена (так Селин становится Соней), разыгрывают диалоги по совершенно сюрреалистической истории из учебника для начинающих и не очень приспособлены к реальной жизни. Селин 18 лет. О жизни она не знает примерно ничего.
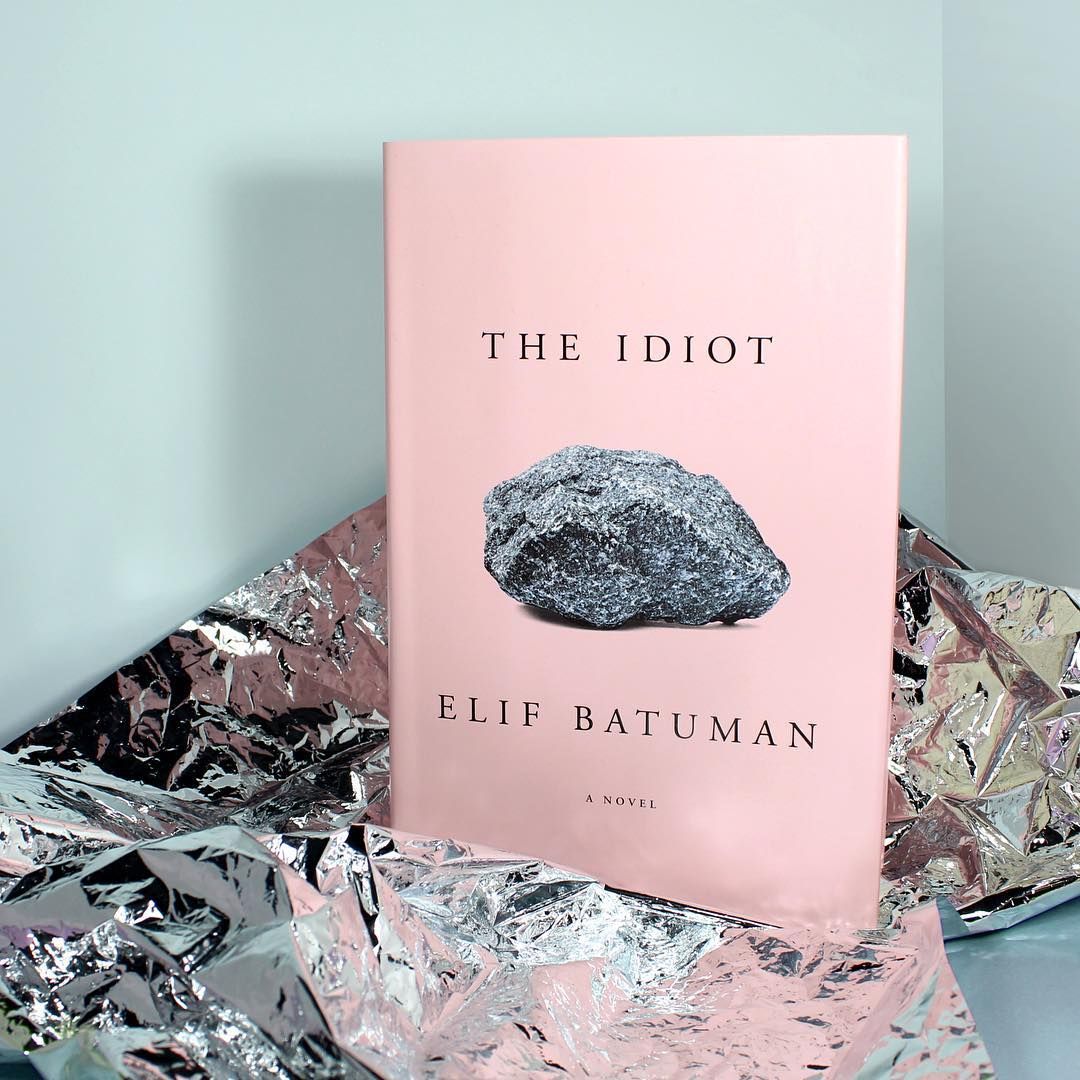 «Идиот» — роман, в котором нарочито почти ничего не происходит. Такой роман воспитания, где человек в начале жизни не проживает никаких событий и должен как-то слепить себя из полного отсутствия опыта. Ни фейерверков, ни веселых вечеринок, ни огненных приключений, ни судьбоносных встреч — ничего. Университет, то есть место, где этот опыт должен произрасти, оказывается самым абсурдным местом, чтобы получать какие-то знания о жизни. На одном семинаре профессор одержим идеей объяснить язык марсианам, другой профессор зачитывает из французских романов в оригинале — и студенты ничего не понимают. Или все-таки понимают, что существует целый monde, совершенно отличный от их собственного. Общественное устройство России XIX века или тонкости французской грамматики не могут объяснить героине, почему Анне Карениной непременно надо было погибнуть и, тем более, почему ей непременно надо жить.
«Идиот» — роман, в котором нарочито почти ничего не происходит. Такой роман воспитания, где человек в начале жизни не проживает никаких событий и должен как-то слепить себя из полного отсутствия опыта. Ни фейерверков, ни веселых вечеринок, ни огненных приключений, ни судьбоносных встреч — ничего. Университет, то есть место, где этот опыт должен произрасти, оказывается самым абсурдным местом, чтобы получать какие-то знания о жизни. На одном семинаре профессор одержим идеей объяснить язык марсианам, другой профессор зачитывает из французских романов в оригинале — и студенты ничего не понимают. Или все-таки понимают, что существует целый monde, совершенно отличный от их собственного. Общественное устройство России XIX века или тонкости французской грамматики не могут объяснить героине, почему Анне Карениной непременно надо было погибнуть и, тем более, почему ей непременно надо жить.
Одна из сцен, которая повторяется в «Идиоте» и «Бесах»: мать героини спрашивает у нее, любил ли Вронский Анну по-настоящему или нет, как будто это в «Карениной» самое важное. Такое искреннее, непосредственное чтение романов кажется настоящим откровением для читателя, которого годы литературной школьной программы (а еще хуже, если университетской) научили именно видеть в литературных героях далекую теорию, не соотносимую с, собственно, жизнью. Героине Батуман удается разбить стену между романами XIX века и опытом своей жизни именно потому, что она совершенно невинна и лишена всякого опыта. Идиот, так сказать. Или, ее же словами, «человек, который каждую новую для себя ситуацию оценивает с чистого листа, словно она возникает впервые».
Если у «Идиота» и есть недостаток, то он в том, что чистота героини доведена до какой-то не всегда убедительной крайности. Когда Иван спрашивает Селин, любит ли она пиво, та честно отвечает «не знаю», он предлагает разделить по стакану, она отвечает «хорошо». В их диалогах ей почти всегда нечего сказать, нечего добавить. Даже ее мечты о «возлюбленном» так невинны, что она только к концу книги позволяет себя пофантазировать о сексе, играясь с душем. От массовой культуры она тоже далека: впервые слышит Битлз, готовя уроки английского, и поражается «противоречием между их бойкими, как бы невинными трелями и скрытым за ними расчетливым, циничным мировоззрением».
Нетрудно представить читателя, который будет ждать от «Идиота» каких-то игр с русской классикой и жестоко разочаруется в итоге, читая откровения гарвардской студентки, которой не о чем откровенничать. Русская классика здесь сюжет совсем второстепенный: тут героиня купила себе плащ, напоминающий «Шинель», там задумалась о судьбе Карениной, да и Достоевский ее грузит. Но при этом само переживание здесь максимально близко к переживанию классики, только если убрать из классического романа сюжет. Тогда остается человек, который движется к пониманию себя через преодоление огромной, трагической в нем пустоты. Осознать эту пустоту можно только через постоянное наблюдение за собой. И роман Батуман вырастает из такого наблюдения. В итоге он оказывается гораздо ближе к Прусту, чем ко всей русской классике, — отчаянная попытка описать и тем самым немного продлить последние дни невинности.
Но парадоксально: это отсутствие событий приводит к тому, что героиня оказывается здесь трагически заперта в собственном романе, — переживая его только через наблюдение, через слово, доводя этот несомненно главный писательский навык до совершенства, она так и не находит в себе сил на поступок, на какое-то событие, которое бы ее из этого состояния внешнего наблюдателя за своей жизнью вытолкнуло. Поэтому «Идиот» прежде всего роман о писательстве, о том, как наблюдение вытесняет жизнь, и о том, что идеальным объектом такого наблюдения всегда будут чистые сердцем, — вполне по Достоевскому.
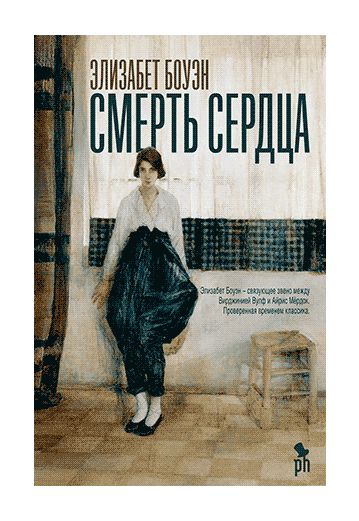 Элизабет Боуэн. Смерть сердца. М.: Фантом Пресс, 2019. Перевод с английского Анастасии Завозовой
Элизабет Боуэн. Смерть сердца. М.: Фантом Пресс, 2019. Перевод с английского Анастасии Завозовой
«Тихая классика» — эпитет, который иронически подходит вдумчивому письму Элизабет Боуэн только потому, что мы про него никогда не слышали. Роман «Смерть сердца» вышел в 1938 году; помимо него, Элизабет Боуэн написала еще бесчисленное количество коротких историй и десять романов, причем пять из них считаются выдающимися. Но только «Смерть сердца» входит в несколько списков лучших современных романов — по версии Time 2005-го и Modern Library 1999-го. Это совсем необязательная в переводе книжка оказывается (может, именно из-за этой дистанции между нами) невероятно пронзительной и точной. Как всякий роман, выпавший из эпохи, которой он принадлежал, мы начинаем читать ее не о времени, а о себе. И «Смерть сердца» раз за разом попадает в болевую точку нашего собственного опыта. Как и «Идиот» Элиф Батуман, это роман взросления (вообще эти книги удивительно совпали временем выхода). Но взросления наоборот, которое воспринимается здесь не как достижение, а как потеря.
И хотя героиня, шестнадцатилетняя Порция, осознать свою потерю не может, она проявляется в глазах читателя: в невинности главной героини отражается наш собственный цинизм. Перемноженный на цинизм окружающих героиню персонажей. Шестнадцатилетняя Порция, оставшись сиротой, попадает в семью своего старшего сводного брата Томаса и его жены Анны, в шикарный, показательно уютный дом на Риджентс-Парк, существующий по законам, которые сама она понять не в силах. Томаса и его жену, высокомерную Анну, раздражает невысказанная потребность Порции в любви, потому что ответить на нее она не может. Но еще больше Анну раздражает присутствие Порции, ее постоянное молчаливое наблюдение за событиями в ее показательно уютной гостиной. Роман начинается с того, что Анна находит дневник Порции и возмущается, как девочка «подмечает все, до последней мелочи, и, разумеется, понимает все совершенно неправильно». Позже, увидев этот дневник, читатель убедится, что Порция вообще все никак не понимает. Она неспособна дать событиям оценку, но она их видит, и оказывается виновна самой своей позицией наблюдателя. История ее отношений с другими персонажами, влюбленность в светскую балаболку Эдди, которая, собственно, и проводит ее от абсолютной невинности к опыту, благодаря которому она станет такой же мертвой сердцем, как и мы все тут, строится именно на разрыве между искренностью чувств Порции и лицемерием всего, что ее окружает.
«Совсем юные люди — инструменты точные, но не резонирующие. Все их чувства, будто чувства животных, заземлены», — пишет Боуэн, и иногда кажется, что она воспринимает Порцию как инструмент для замера общества в целом. По ходу ли рассказа, вкладывая ли свои остроумные замечания в реплики персонажей, Боуэн наполняет роман афоризмами самого высокого толка, неизменно точными, язвительными и чаще всего слегка беспощадными. Тут, конечно, читателю ужасно повезло, что роман перевела Анастасия Завозова, и ни один из этих афоризмов не пропадает в переводе, а как-то даже раскрывается. «Смерть сердца» кажется бесконечным упражнением в точности замечаний, вполне уайльдовских, хотя построенный на полутонах рассказ о чистоте и ее утрате отсылает нас скорее к Генри Джеймсу.
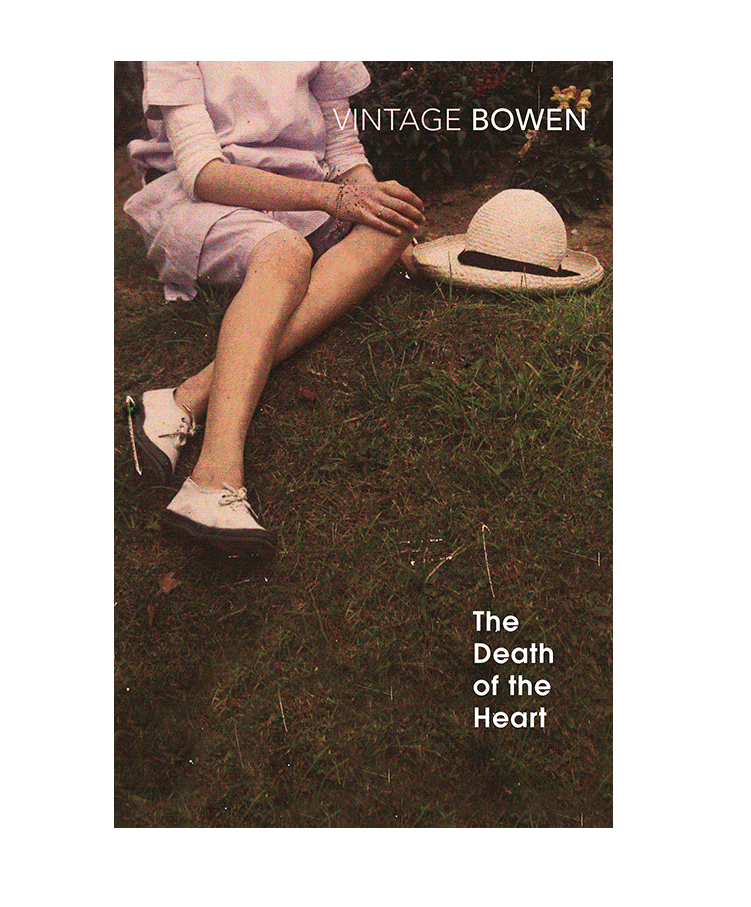 «Мы все сначала предъявляем друг другу требования, которым трудно соответствовать, а потом рвем себе сердца из-за этого несоответствия», — замечает Анна. «У стиля всегда есть некоторый оттенок фальши, однако писать без стиля невозможно. Посмотри, сколько усилий мы прикладываем, просто чтобы надписать конверт…» — пытается защитить Порцию приятель Анны, писатель Сент-Квентин. Все разговоры в романе существуют, как будто для того чтобы их записали. Но за внешним лоском скрывается что-то более глубокое, даже отчаянное.
«Мы все сначала предъявляем друг другу требования, которым трудно соответствовать, а потом рвем себе сердца из-за этого несоответствия», — замечает Анна. «У стиля всегда есть некоторый оттенок фальши, однако писать без стиля невозможно. Посмотри, сколько усилий мы прикладываем, просто чтобы надписать конверт…» — пытается защитить Порцию приятель Анны, писатель Сент-Квентин. Все разговоры в романе существуют, как будто для того чтобы их записали. Но за внешним лоском скрывается что-то более глубокое, даже отчаянное.
В одном из эпизодов романа Порция приходит к брату, Томасу, а ему трудно с ней говорить, потому что надо держать лицо, а по вечерам, после работы, ему хочется только, чтобы «лицо обмякло до пустых линий». Эта необходимость все время держать у лица маску, когда его собственное выражение давно потеряно, и есть та самая смерть сердца, распознать которую Порция по юности не может. В другом месте Боуэн рассуждает о том, как «уничтожение зданий и мебели отзывается в сердцах куда острее, чем уничтожение человеческой жизни»: «Люди не вешали бы картины над каминами строго по центру, не приклеивали бы обои так, чтобы узор казался бесшовным, если б им не казалось, что с жизнью можно как-то договориться». Тут опять же — конец старой Англии, в живой памяти Первой мировой войны и преддверии второй, и понятна попытка отчаянно уцепиться за что-то постоянное, когда все кругом разваливается. Но тут она доведена до предела: в финале, когда разваливаются уже их собственные жизни и дело идет к настоящей катастрофе, герои не могут оторваться от ужина и чинно поглощают его до последней ложки десерта.
Любопытно, как «Смерть сердца» перекликается с историей самой Боуэн, которая рано осталась сиротой, воспитывалась тетками и почти всю жизнь провела в браке, сильно напоминающем брак ее героини, Анны: с мужем, с которым у нее, очевидно, никогда не было физических отношений, и яркими романами с мужчинами и женщинами вне брака. Самое последнее дело, конечно, выискивать в судьбе автора объяснение его роману, но невероятная точность диагнозов в «Смерти сердца» должна быть хоть чем-то объяснена. В конце концов, это всего лишь одна весна, одна девочка и даже почти никакой драмы. Но почему-то это отсутствие драмы ощущается здесь как человеческая трагедия огромного масштаба.
