Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Павел, не могли бы вы коротко рассказать о своем видении этого проекта.
— Я вас всех приветствую от лица нейросети ruGPT-3. Иногда моего соавтора ruGPT-3 называют «Нейропепперштейн», а я придумал название «Тесорйен». Это всего лишь слово «нейросеть» наоборот, оно звучит по-французски и вместе с тем по-тибетски. Мерцание между французским и тибетским языком в данном случае очень уместно. Название сборника «Пытаясь проснуться» предложил я в диалоге с Феликсом Сандаловым, главным редактором издательства Individuum, который и вовлек меня в это дело. Это название связано с тем впечатлением, которое произвели на меня рассказы, написанные нейросетью: у меня возникло ощущение, будто некое существо находится во сне, пытается проснуться.
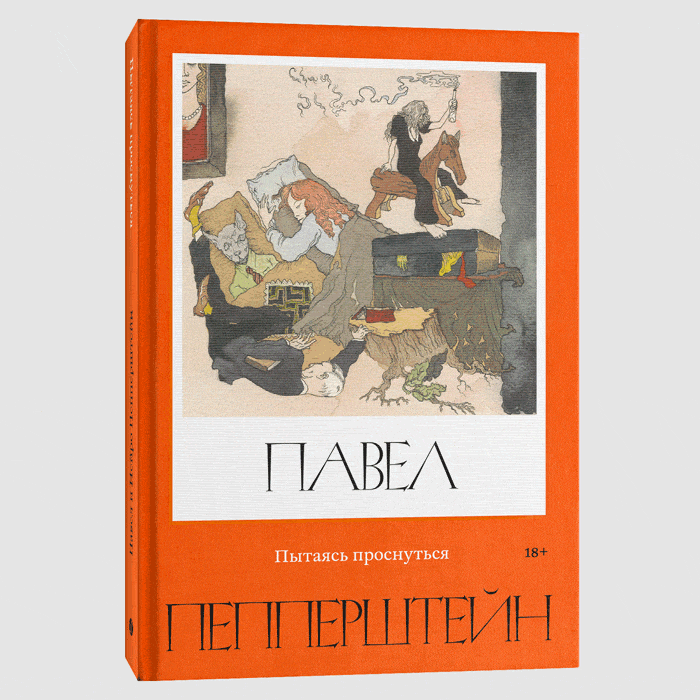
Некоторые аналогии с текстуальностью рассказов Тесорйен нам понятны. Например, мне они напомнили тексты людей, которые находятся под гипнозом. В период моего отрочества было несколько модных персонажей, занимавшихся подобного рода экспериментами, например Владимир Леви и Владимир Райков. Помню, как мы с мамой посещали семинар по мультипликации в Доме кино. Там происходили и другие вещи, не связанные с мультипликацией. В частности, гипнотизер Райков показывал фильмы, где вводил людей в состояние гипноза и внушал им, что они Репин, — и они рисовали. Потом он внушал, что они Пастернак или Ахматова, — и они писали стихи. Интересно, что эти люди довольно бойко писали и рисовали, но при этом не создавалось впечатления, что стихи человека, загипнотизированного в состояние Пушкина, похожи на стихи Пушкина. Их продукция очень отличалась от того, что они могли нарисовать или написать в бодрствующем состоянии, но получалась очень узнаваемой. Если говорить о рисунках, то в основном это были пузырчатые формы, как бы полые, наполненные светом фосфорного характера. То есть если это дерево, то казалось, что оно надувное, а если лицо — то тоже надувное.
В связи с этим мне вспомнилась работа священника отца Павла Флоренского «Лик, лицо, личина». В ней он предлагает теологическую классификацию: лик — это некое высшее состояние лица. Конечно, здесь он ссылается на иконы и говорит о том, что человек создан по образу и подобию Божьему. Далее — лицо, каким мы его видим на фотографиях или в жизни, то есть живое человеческое лицо, соответствующее конкретному телу и конкретной душе. Затем он вводит понятие «лярва», заимствованное из биологии, где этим словом называются личинки или куколки бабочек. Мы прекрасно знаем, что в мире природы личинки максимально наполнены потенциальной жизнью, но в теологической концепции Флоренского лярвы пусты, это маски или личины. В его понимании это некий инфернальный слой. Можно сказать, что тексты, которые пишет нейросеть, рисунки, которые она создает, носят лярвический характер. Конечно, этому можно не придавать инфернальный оттенок, но некая пустота наполняет нейросетевые тексты и изображения.
— В некотором смысле нейросеть построила ваш слепок в тексте. Узнаете ли вы себя в этом отражении?
— Я не узнал себя в этом отражении, хотя там присутствовали скрытые и достаточно открытые цитаты и имена из моих текстов. Создатели нейросети решили «накормить» программу не только моими рассказами и романами, но еще и всякими интервью. Возможно, это было ошибкой, по крайней мере я бы так не делал. Кроме того, в текстах, которые написала нейросеть, присутствует знакомство с некоторым количеством другой литературы, и это очень чувствуется. Я не знаю, чем еще ее «кормили».
— Я могу вам сказать. Программисты говорят, что «кормили» модель текстами, цитирую, «повествователей, которые, несомненно, повлияли на авторскую манеру Пепперштейна». Это тексты Леонида Андреева, Исаака Бабеля, Александра Грина, Бориса Пильняк, Бориса Лавренёва. Вы действительно чувствуете влияние этих авторов на вашу манеру письма?
— Из перечисленных я бы никого не назвал. Лавренёва я вообще не читал. Что касается Андреева, то гораздо в большей степени на меня оказал влияние его сын Даниил Андреев и его произведение «Роза мира». Влияние его отца практически нулевое. Возможно, они что-то перепутали.
Здесь важно сказать, что в сборник вошли далеко не все тексты, написанные нейросетью. В начале мне передали довольно большую охапку рассказов, первый из которых назывался «Бэха». Меня это позабавило, потому что я не знал, что такое бэха. Я человек, который не интересуется автомобилями и никогда не сидел за рулем автотранспорта, так что первое соприкосновение с рассказами, которые были написаны «под меня», началось со слова, которое я просто не знал.
Таких слов и понятий довольно много, из чего я заключил, что любая имитаторская деятельность, в частности имитация со стороны нейросети, прокалывается именно на минусах. Гораздо легче имитировать то, что человек знает, чем то, чего он не знает. У меня этих минусов в жизни очень много, т. е. меня скорее отличает от других людей не то, что я умею или делаю, а то, чего я не умею и не делаю по сравнению с нормальным обычным человеком. Я не летаю на самолетах, не пользуюсь компьютером, не умею пользоваться айфоном, не вожу машину и не разбираюсь в них. Список ущербностей я мог бы продолжить, и именно эта сфера ущерба, недостатков гораздо сложнее имитируется любым имитатором — будь то человек-пародист или нейросеть, — чем достижения.
— А как вообще технофоб оказался в техно-авангардном проекте?
— Мне кажется, это главный прикол книги, самое смешное и приятное, что в этой затее присутствует. Заслуга Феликса Сандалова в том, что он выбрал для соавторства с нейросетью наиболее технофобского из всех российских писателей.
— Ваша технофобия не обострилась от взаимодействия с Тесорйен?
— Моя технофобия носит мерцательный характер, но в начале, конечно, моим первым поползновением было немедленно в ужасе отказаться, но любопытство пересилило.
 Павел Пепперштейн и Игорь Холин на фоне дома Бориса Пастернака в Переделкине, середина 1990-х. Фото предоставлено Павлом Пепперштейном
Павел Пепперштейн и Игорь Холин на фоне дома Бориса Пастернака в Переделкине, середина 1990-х. Фото предоставлено Павлом Пепперштейном
— После того, как вы увидели первые плоды?
— Да, творчество нейросети. И меня очаровало это состояние предпробуждения или непробужденности. Можно продолжить перечисление аналогий, которое я начал с рассказа о творчестве людей под гипнозом. Следующая аналогия — это спиритизм, то есть тексты, которые диктуются духами. Надо сказать, что мое детство и отрочество прошло в Переделкине, в том числе в Доме творчества, и как раз здесь тогда расцветал — отчасти по моей инициативе и инициативе моей мамы — спиритизм.
В начале 1980-х мы устраивали множество спиритических сеансов, куда вовлекали различных обитателей Переделкина, в том числе довольно известных писателей. При этом у нас не было веры в то, что мы общаемся с духами умерших людей, чьи имена называются в момент вызывания, хотя «они» обладали персональными особенностями.
В какой-то момент мы даже «подружились» с духом, который называл себя Жан-Жак Руссо. Общаясь с этим духом в мои 13-14 лет, я еще не являлся читателем этого писателя, но потом, уже отказавшись от спиритизма и ностальгируя время от времени по некоторым «знакомым», к которым я уже успел привязаться, я вытащил из шкафа «Исповедь» и стал читать. Я был просто потрясен: у меня было абсолютно достоверное ощущение, что книга написана хорошим знакомым. То есть я узнавал обороты речи, мысли, но все же это не убедило, что я действительно общался с духом Руссо. Скорее это нечто, которое Вернадский, например, называл ноосферой. То есть сеть, нейросеть и интернет не возникают на пустом месте, они представляют собой слепки явлений, которые существовали и до них. По всей видимости, существует слой бытия, где скапливается все сказанное, все написанное, и там работает некая внетехнологическая нейросеть, которая фабрикует Руссо и других персонажей, способных имитировать стиль не только писателей, но и родственников, отвечать на вопросы, иногда очень четко попадая.
Мы в то время очень любили смущать скептиков. Раздобыть скептика на спиритический сеанс — это было самое сладкое, потому что мы немедленно предлагали задать какой-нибудь вопрос о том, о чем никто другой, кроме спрашивающего, не знает. Мы уже заранее знали, что скептицизм будет посрамлен, духи очень хорошо умеют отвечать на эти вопросы, создавать иллюзию, что они много чего знают. Тем не менее они ничего не знают о будущем, в какой-то момент они в этом открыто признались. Но все, что уже произошло, они знают неплохо, в том числе очень скрытые вещи. Опять же не значит, что это духи умерших людей. Это нейросеть.
— Ведь не только сеть подстраивалась под вас, но и вы писали тексты, ознакомившись с частью, написанной Тесорйен...
— Если честно, не все рассказы написаны после знакомства с текстами Тесорйен. Примерно половина рассказов написана до знакомства.
— Под что именно вы подстраивались?
— Я следовал за ностальгическими ощущениями, которые у меня вызывают воспоминания об этих спиритических текстах, которые нам надиктовывали духи. Мы их часто записывали, к сожалению, я потерял эти записи, но многое помню.
Кроме всего, у меня возникла аналогия с моими самыми ранними текстами. Это вполне понятно: за описанием любовного свидания или сексуального приключения, созданным в этом возрасте, никакого личного опыта нет, помимо опыта прочитанных текстов или услышанных рассказов. У нейросети тоже нет опыта ни в чем из того, что она описывает. Таким образом, мы имеем уже три аналогии: гипноз, спиритизм и детское творчество.
Отсутствие тела, как мне кажется, выражается в еще одной особенности нейросетевых текстов. Мне показалось, что они обладают свойством незапоминаемости. То есть мне не удается вспомнить абсолютно ничего из этих текстов. Это как-то связано с отсутствием расстановки акцентов. Нейросеть разворачивает свой текст на плато, в то время как человеческое существо склонно акцентировать высказывания, и делает это непроизвольно, в том числе в соответствии с биоритмами, то есть телесной деятельностью.
— Хочется спросить, какие у вас отношения с математикой?
— В школе у меня были очень напряженные отношения с математикой. С большим трудом мне удавалось дотягивать до тройки. Более того, у меня была такая склонность при чтении: когда мне встречались какие-нибудь цифры, я их пропускал. Этот диссонанс особенно проступал на уроках истории. Я очень подробно пересказывал события, иногда даже гипнотизировал весь класс способностью разворачивать персонажей в неожиданных деталях, но я был абсолютно не способен ответить ни на один вопрос, касающийся дат. В какой-то момент мне удалось от этого отучиться. Тем не менее мои отношения с математикой отчасти остались в рамках детского идиотизма, а отчасти как-то трансформировались под влиянием галлюциногенных препаратов. Случилась эта трансформация в Западном Берлине, когда он еще существовал: именно в этом городе-острове произошло общение с веществом, которое очень сильно изменило мое отношение к математике. Внутри трипа вдруг мне стали открываться некие математические категории, истины, что нашло свое отражение в гигантской серии рисунков и текстов. Все они вертелись вокруг математической проблематики.
— В послесловии вы говорите, что ваши произведения последних 20 лет объединяет, во-первых, то, что многие их воспринимают как галлюцинаторный стеб, а во-вторых — авторская амбиция осуществить «беспомощное изничтожение действительности», изничтожение «Взрослой культуры». Рассказы сборника продолжают эту линию?
— Конечно. Война со Взрослой культурой продолжается, и нейросеть — хороший союзник в этом предприятии.
 Павел Пепперштейн в Переделкине, 1970-е. Фото предоставлено Павлом Пепперштейном
Павел Пепперштейн в Переделкине, 1970-е. Фото предоставлено Павлом Пепперштейном
— Вы проговариваете еще один интересный момент, дескать, Взрослая культура 20 лет назад куда-то делась, а потом, 10 лет назад, воскресла. А что случилось?
— В контексте послесловия это имеет отношение к тому, над чем я иронизирую — над повсеместными разговорами о декадах. Мне и самому это свойственно, поэтому это скорее самоирония.
Имеется в виду, что в нулевые годы возникало ощущение: то, что называлось элитарной культурой, временно исчезло, и произошел расцвет культуры массовой. Возникли очень значимые в размерах Земли эпические экранизации, как «Пираты Карибского моря», «Властелин колец», «Гарри Поттер». Такого рода эпический расцвет и вообще дискурс всеобщего, как мне кажется, предполагает определенную инфантилизацию. Я к ней отношусь с одобрением, потому что детское состояние объединяет: все дети с легкостью находят общий язык друг с другом — откуда бы они ни происходили, к какой бы группе населения ни относились. Но затем, в следующее десятилетие, массовая культура на наших глазах угасла. В моем дискурсе я это называю исчезновением большого экрана, всеобщего зрелища. Последнее, что можно зафиксировать в этом ряду, — это сериал «Игра престолов». Теперь на месте массовой культуры мы видим тенденцию к субкультуризации.
Если перескочить в соседнюю область современного искусства, то можно увидеть, что в ней борются две тенденции. Тенденция, которая доминирует, — это превращение современного искусства в субкультуру, в одну из — со своей идеологией, риторикой, определенным типом презентации. Другая тенденция, которую представляю я, — это попытка сохранить в современном искусстве территорию, где все другие субкультуры могли бы встречаться и взаимодействовать.
Одно полностью исключает другое. Чтобы служить открытой территорией для репрезентации субкультур, современное искусство не должно превратиться в отдельную субкультуру. А для этого нужна детская позиция. Сейчас же мы повсеместно видим реконструкцию Взрослой культуры в ее субкультурной версии, когда всему снова навязывается идеология. Теперь еще есть то, что называется словом «повестка» — слово, от которого хочется блевать. Казалось, оно утонуло в советском прошлом, но вот — неожиданно снова вылезло и похоже на живого мертвеца.
— Получается, что в тенденции, которую вы представляете, культурное взаимодействие может носить лишь игровой характер. Никакой антагонизм всерьез невозможен.
— Да, антагонизм тоже представляет собой игру, в чем Взрослая культура совершенно не заинтересована. Она хочет, чтобы все было по-серьезному. Соответственно, возникает целый пласт риторики, в частности он окрашивается в некую критику постмодернизма. Постмодернизм по старой привычке ассоциируется с иронией, с тотальным стебом, что и критикуется как нечто устаревшее.
— Обычно иронии противопоставляется то, что называется новой искренностью.
— Да, новая этика, новая искренность и так далее.
— Хорошо, с тем, что произошло 10 лет назад, мы немного разобрались. Но напрашивается вопрос, а как обстояли дела в 1990-е, когда писалась «Мифогенная любовь каст»?
— Тогда была другая ситуация. Происходил некий диалог между элитарными культурами, которые предполагали существование массовой культуры. Сейчас и то, и другое сведено к минимуму. Вместо этого представлена сеть субкультур, которые в каком-то смысле равны, но игнорируют это равенство. Они очень по-разному включены в идеологические цепочки, обладают разными функциями, некоторые считают себя привилегированными. В 1990-е можно было успешно практиковать то, что я очень люблю, — двойную адресацию, предполагающую, что продукцию может с увлечением читать подросток или наивный читатель, а может — искушенный интеллектуал.
— А сейчас вы практикуете двойную адресацию?
— Конечно, я пытаюсь ее сохранять, но структурно это стало сложнее сделать в силу интернета, тотальной и поверхностной информированности всех обо всем. Информация о моей художественной деятельности не помогает, а мешает. В 1990-е никто не знал, что мы художники, и это шло на пользу задачам, которые мы перед собой ставили.
 Павел Пепперштейн и Иван Напреенко на презентации книги в Доме творчества Переделкино. Фото Евгении Беляковой
Павел Пепперштейн и Иван Напреенко на презентации книги в Доме творчества Переделкино. Фото Евгении Беляковой
— Кажется, что сейчас грань между вашими художественными или литературными проектами почти стерлась.
— Я пытаюсь этому противостоять. В частности, я принял решение отказаться от иллюстрирования своих текстов. Довольно значимым является то обстоятельство, что в переиздании «Мифогенной любви каст» задействованы работы Рината Волигамси. Также эта книга издана в виде комиксов, где 32 художника создали работы по 36 главам «МЛК».
Кроме того, я дебютировал как куратор. Сейчас как раз проходят две подготовленные мной выставки, где очень много участников, которые не являются частью какой-то одной субкультуры. Мы с Соней Стереостырски приглашали очень разных художников — из нашего круга, друзей и тех, кого мы совсем не знали, которых мы находили в сети. Они работают в разной манере и с разными темами, и нам бы хотелось еще сильнее заострить этот момент в следующих выпусках комиксов по «МЛК».
Мне хотелось бы развивать свою кураторскую деятельность так, чтобы в искусство вошло множество явлений, которые существуют сейчас в сети, в компьютерных играх, в книжной иллюстрации, но дискриминированы в сфере современного искусства и не имеют выхода на выставочные пространства. Я бы хотел, чтобы они оказались в прицеле интеллектуального исследования.
— Вы сотрудничали с нейросетью не только как писатель, но и как художник. На обложке книги — вариокартинка. В зависимости от угла зрения мы видим работу нейросети ruDALL-E, натренированной на ваших рисунках, или вашу картину по ее мотивам. Как вам нейросеть в качестве художника?
— Абсолютно так же, как в качестве писателя. Мне что-то почудилось в несколько невнятной нейросетевой картинке, и я попытался нарисовать, что мне там почудилось. Сборы в дорогу — назовем это так. Чемодан присутствует, носки какие-то из него торчат, девушка спит. Рядом с ней заяц, еще какие-то люди.
— «Повестка», «актуалочка» — можно подобрать разные неприятные слова для обозначения того, что происходит принудительно по отношению к нам. Вы склонны все это игнорировать или в вашем творчестве есть место для рефлексии о текущем?
— Здесь мы можем говорить в терминах отсрочки. Эта тема играет очень большую роль в Ветхом Завете, например в истории женитьбы Иакова [по Библии, Иаков ждал женитьбы на Рахиль 14 лет. — Прим. ред.]. Эти отсрочки зеркалятся в гигантском сроке жизни библейских персонажей — вспомним, тот же Иаков жил 700 лет. Речь не идет о том, чтобы полностью практиковать позицию страуса и засовывать голову в песок, хотя я очень к этому склонен. Поза страуса мной не рекламируется, но какие-то важные вещи о том, что происходит сейчас, становятся понятны только потом, через некоторое время. Спонтанные и быстрые реакции не должны носить навязанный характер. Если коллективы и страты давят и навязывают что-то, совершенно естественно этому давлению противостоять.
