Галина Ульянова. Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предпринимательницы в России XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание. Фрагмент
 Книга с почти скандальным посылом: главный научный сотрудник Института российской истории РАН развеивает представление о том, что в XIX веке уделом женщин в России были сугубо домашнее затворничество и воспитание детей. Ульянова показывает: в стране существовала целая когорта персон женского рода, активно вовлеченных в предпринимательство. Речь о представительницах экономически активных сословий, т. е. дворянках, купчихах и мещанках, но также и о крестьянках, переселившихся в город, солдатках и казачках. И это, согласно доктору исторических наук, не единичные случаи, поскольку женщин, как и мужчин, воспитывали в духе финансовой грамотности и учили разбираться во всевозможных сделках.
Книга с почти скандальным посылом: главный научный сотрудник Института российской истории РАН развеивает представление о том, что в XIX веке уделом женщин в России были сугубо домашнее затворничество и воспитание детей. Ульянова показывает: в стране существовала целая когорта персон женского рода, активно вовлеченных в предпринимательство. Речь о представительницах экономически активных сословий, т. е. дворянках, купчихах и мещанках, но также и о крестьянках, переселившихся в город, солдатках и казачках. И это, согласно доктору исторических наук, не единичные случаи, поскольку женщин, как и мужчин, воспитывали в духе финансовой грамотности и учили разбираться во всевозможных сделках.
Первая треть книги посвящена «условиям возможности» женского предпринимательства в Российской империи — автор анализирует исторический контекст, законодательные тонкости, а также типичные женские бизнес-траектории в различных сословиях. Две трети уделена уникальному: это галерея вдохновляющих портретов десятков русских женщин, весьма по-разному строивших карьеру — например, производя сукно и парчу, управляя золотыми приисками и литьем рельс для Транссибирской магистрали.
Нельзя сказать, что открытия Ульяновой радикально отменяют картину женской угнетенности в совершенно крестьянской стране, но в определенной степени лишают ее черно-белой однозначности.
«Чтобы обезопасить предприятие от закрытия в связи с несоответствием санитарным требованиям, Наталья Бахрушина не колеблясь пошла на дополнительные инвестиции в оборудование».
Дмитрий Рогозин. Столько не живут. Чему нас могут научить столетние старики. М.: Пункт, Common Place, 2021. Содержание
 Первое издание этой книги вышло в 2017 году, через пару лет после того, как социолог Дмитрий Рогозин взялся изучать старшее поколение. В основе лежала сотня интервью с людьми на пороге (или за порогом) столетия, ужатые до одной мысли, одного наблюдения или признания, выраженных в сотне слов. Так получилась вереница афористичных высказываний о любви, надежде, шаровых молниях, фанфуриках и прочих вещах, образующих непарадную, живую жизнь. Афористичность предполагает и некоторую безындивидуальность: в результате ужимания и пересказа своими словами уникальные характеристики речи стерлись, но и не вполне понятно, как с выбранным подходом этого можно было бы избежать.
Первое издание этой книги вышло в 2017 году, через пару лет после того, как социолог Дмитрий Рогозин взялся изучать старшее поколение. В основе лежала сотня интервью с людьми на пороге (или за порогом) столетия, ужатые до одной мысли, одного наблюдения или признания, выраженных в сотне слов. Так получилась вереница афористичных высказываний о любви, надежде, шаровых молниях, фанфуриках и прочих вещах, образующих непарадную, живую жизнь. Афористичность предполагает и некоторую безындивидуальность: в результате ужимания и пересказа своими словами уникальные характеристики речи стерлись, но и не вполне понятно, как с выбранным подходом этого можно было бы избежать.
Второе издание дополнено развернутыми социологическими комментариями к интервью и соображениями по улучшению социальной политики, а также семнадцатью новыми стословными зарисовками. Основной и обоснованный упрек, который Рогозин выдвигает по отношению к государственной системе поддержки стариков, заключается в том, что это политика слепой заботы, где императив поддержки вытесняет живое общение и способность видеть человека в предсмертной ситуации. Однако, когда социолог говорит от себя, в его речи проступает то же, что его, кажется, не устраивает в опекающей политике, — дидактичность и морализаторство, вполне, впрочем, обоснованные прикосновением к «пограничному» материалу, о котором так хочется сообщить последнюю истину.
Конечно, это ничуть не сказывается на ценности уникального документа.
«Живут долго не те, кто не болеет, а те, кто научился жить с болезнью, обуздал ее норов, приспособился к боли. Долголетие — это умение быть слабым и немощным, осознание твоей хрупкости и через нее — хрупкости мира».
Михаил Трофименков. XX век представляет. Избранные. М.: ИД «Городец», 2021. Содержание
 Есть небеспочвенное предубеждение против издания публикаций в периодических СМИ в виде сборников-книг. Зачем платить за то, что уже (или может быть) прочитано бесплатно, и в чем вообще прирост ценности? Сборник текстов замечательного кинокритика Михаила Трофименкова дает убедительный ответ на подобные вопросы: его эссе, выходившие в основном в «Коммерсанте», суть куски пазла, сложенные автором в цельную картину.
Есть небеспочвенное предубеждение против издания публикаций в периодических СМИ в виде сборников-книг. Зачем платить за то, что уже (или может быть) прочитано бесплатно, и в чем вообще прирост ценности? Сборник текстов замечательного кинокритика Михаила Трофименкова дает убедительный ответ на подобные вопросы: его эссе, выходившие в основном в «Коммерсанте», суть куски пазла, сложенные автором в цельную картину.
Что на картине? Трофименков говорит, что портреты его героев, каждый по-своему, преломляют XX век с его крайностями, описывают его непрямо, через личные истории. Тут уместно вспомнить, что по образованию автор — историк искусства, написавший два основательных исследования о том, как связаны кино и политики («Красный нуар Голливуда» и «Кинотеатр военных действий»). Персонажи «Избранных», со многими из которых Трофименков был лично знаком, относятся далеко не только к кинематографу, хотя таких большинство. Это противоречивые герои целостного поля культуры, которую Трофименков отказывается делить на мейнстрим и андеграунд: Сергей Михалков тут соседствует с Бродским, Евтушенко — с Гигером, Юфит — с Бела Лугоши, Лимонов — с Лановым.
Авторская наблюдательность и умение расставить трансцендируют устоявшиеся образы. В Гигере Трофименков подмечает неочевидное чувство юмора, в Германе видит родство с «Монти Пайнтон», а в Хантере Томпсоне различает замашки моралиста. Признаться, это метко и важно, и вовсе не то, о чем думаешь при взгляде на этих людей.
«Как утверждают многие, Михалков прекрасно знал, что из написанного им откровенно плохо, и не скрывал этого. Это дорогого стоит: любой другой на его месте забыл бы само слово „критерии“».
Владимир Воропаев, Ирина Дергачева, Елена Конявская, Владимир Мильков. Танатологическая тема в русской словесности XI–XXI вв. М.: Индрик, 2021. Содержание
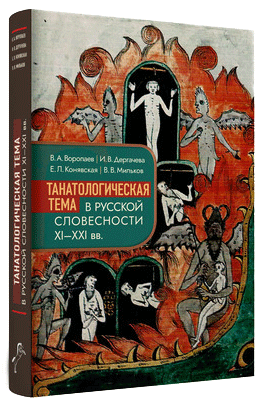 Интереснейшая коллективная монография, посвященная малоизученной теме — представлениям о смерти, умирании и посмертном инобытии в русской культуре. Едва ли не половину книги занимает захватывающий анализ древнерусской книжности — канонической и неканонической, всевозможных летописей, агиографий, грамот и прочих источников. Отсюда можно, в частности, узнать о трактовках природы рая в разных течениях древнерусской мысли. Так, в частности, выясняется, что Василий Калика придерживался феноменального понимания рая, а Филипп Пустынник — ноуменального, и это две крайности средневековых воззрений на сей тонкий предмет.
Интереснейшая коллективная монография, посвященная малоизученной теме — представлениям о смерти, умирании и посмертном инобытии в русской культуре. Едва ли не половину книги занимает захватывающий анализ древнерусской книжности — канонической и неканонической, всевозможных летописей, агиографий, грамот и прочих источников. Отсюда можно, в частности, узнать о трактовках природы рая в разных течениях древнерусской мысли. Так, в частности, выясняется, что Василий Калика придерживался феноменального понимания рая, а Филипп Пустынник — ноуменального, и это две крайности средневековых воззрений на сей тонкий предмет.
Отдельные разделы посвящены танатологическому дискурсу у Державина, Одоевского и Гоголя, тематике смерти и воскресения у Достоевского; здесь авторы обнаруживают, что центральным для русского самосознания является единство смыслов жизни и смерти (признаться, мы в этом никогда не сомневались). Заканчивается монография разбором рецепции христианских и автохтонных представлений о смерти у Булгакова, Водолазкина, Улицкой и Петрушевской, и тут выясняется, что центральное «изобретение» наших современников — это рай без бога.
«Общим признаком концепции земного рая является включенность в плоскостно-комарную схему мироустройства».
Гриша Брускин. Клокочущая ярость. Революция и контрреволюция в искусстве. М.: Новое издательство, 2021. Содержание. Фрагмент
 Такое бывает: дельные вещи излагаются самым пошлым образом. Если сомневаетесь, что это возможно, ознакомьтесь с анализом революционной иконографии в исполнении любимого Борисом Гройсом художника Гриши Брускина. Автор бесстрашно сближает далековатые истины, связывая «Бабу-ягу» Васнецова и Лаокоона Агесандра Родосского, «Ленина со снеговиком» Соломона Никритина и «Остров доктора Моро» Уэллса, героев Петрова-Водкина и маркиза де Сада. Парадигмальным изображением революции, эталоном измерений для Брускина служит «Свобода» Делакруа, и всю книгу он прикладывает этот эталон к множеству иных известных и малоизвестных работ и произведений — причем делает это вне всякой академической строгости, подчеркнуто волюнтаристски, почти случайно, от чего смыслы начинают двоиться и разбегаться. Разбегаться настолько, что изложение уходит в материи весьма далекие от революционной тематики, перетекая в странноватые на первый взгляд фрагменты вроде воспоминаний о похотливом терьере по кличке Кока или автомобильном трафике на улицах Москвы 1950-х.
Такое бывает: дельные вещи излагаются самым пошлым образом. Если сомневаетесь, что это возможно, ознакомьтесь с анализом революционной иконографии в исполнении любимого Борисом Гройсом художника Гриши Брускина. Автор бесстрашно сближает далековатые истины, связывая «Бабу-ягу» Васнецова и Лаокоона Агесандра Родосского, «Ленина со снеговиком» Соломона Никритина и «Остров доктора Моро» Уэллса, героев Петрова-Водкина и маркиза де Сада. Парадигмальным изображением революции, эталоном измерений для Брускина служит «Свобода» Делакруа, и всю книгу он прикладывает этот эталон к множеству иных известных и малоизвестных работ и произведений — причем делает это вне всякой академической строгости, подчеркнуто волюнтаристски, почти случайно, от чего смыслы начинают двоиться и разбегаться. Разбегаться настолько, что изложение уходит в материи весьма далекие от революционной тематики, перетекая в странноватые на первый взгляд фрагменты вроде воспоминаний о похотливом терьере по кличке Кока или автомобильном трафике на улицах Москвы 1950-х.
Наблюдать это забавно и увлекательно, но только если подавить идиосинкразию к манере изложения.
«А что, если толпа повелась именно за восхитительными прелестями красавицы во фригийском колпаке?
И водил мужской похотью свирепый языческий Amore с гирляндами вырванных французских сердец?»
