Сергей Крих. Другая история: «Периферийная» советская наука о древности. М.: НЛО, 2020
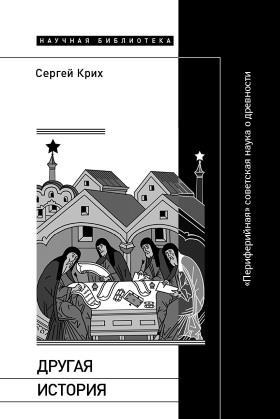 Иногда правители и их методы живут дольше, чем та эпоха, которую они сами же создали. Великая Отечественная война была принципиальным разделом, завершившим для советского общества эпоху после революции со всем ее наследием: противостоянием победителей и побежденных, размежеванием среди победителей, привычкой к революционному террору. Победа в войне предполагала бенефициаром весь народ (при всех оговорках и последовательном стремлении властей ранжировать население на оккупированных и неоккупированных, попавших в плен или в штрафбаты и т. п.). Кроме того, следствием войны с ее потерями как среди военных, так и среди мирного населения было возрастание ценности человеческой жизни. Два этих фактора культурно делегитимизировали организуемый государством террор против собственного общества.
Иногда правители и их методы живут дольше, чем та эпоха, которую они сами же создали. Великая Отечественная война была принципиальным разделом, завершившим для советского общества эпоху после революции со всем ее наследием: противостоянием победителей и побежденных, размежеванием среди победителей, привычкой к революционному террору. Победа в войне предполагала бенефициаром весь народ (при всех оговорках и последовательном стремлении властей ранжировать население на оккупированных и неоккупированных, попавших в плен или в штрафбаты и т. п.). Кроме того, следствием войны с ее потерями как среди военных, так и среди мирного населения было возрастание ценности человеческой жизни. Два этих фактора культурно делегитимизировали организуемый государством террор против собственного общества.
Для научного сообщества к этому добавлялась еще одна важная характеристика: расстановка сил и формирование центров влияния уже произошли, а приход в науку нового поколения еще не был в полной мере подготовлен, и в первые послевоенные годы преобладали черты скорее преемственности, чем противостояния. Это означало, что в большинстве случаев идеологические кампании (против объективизма, космополитизма, низкопоклонничества перед иностранщиной) не могли быть использованы для принципиального передела сфер влияния в той или иной области науки.
В исторической науке никаких перемен в области историописания не предвиделось и не требовалось, поэтому идеологические повороты конца 1940-х гг. не были связаны с перестройкой сознания или «переоткрытием» марксизма. С этой точки зрения поздние сталинские кампании фактически инициировали утверждение лукавства в отношениях между властью и даже теми историками, кто еще был готов воспринимать исходящие от ЦК директивы как истины в последней инстанции. В отличие от ситуации 1930-х гг., научное сообщество объективно не нуждалось в переделе сфер влияния (что не исключает индивидуальных к тому попыток) и поэтому стало вырабатывать механизмы по возможности формального участия в идеологических кампаниях.
Механизмы эти были различными, и далеко не все из них можно считать гуманными. Один из наиболее простых приемов (и относительно безвредных) — неистовая критика того, кому не можешь повредить. Классический ее вариант — критика зарубежных ученых, русских дореволюционных историков, особенно покойных. Конечно, лучше работало первое, потому что все остальные варианты могли выглядеть не соответствующими задачам актуальной борьбы, а формальная критика порицалась. Но попирание зарубежных авторитетов могло не работать в условиях таких кампаний, как борьба с низкопоклонничеством перед иностранной наукой, потому что здесь прямо требовалось порицать своих и притом крайне желательно здравствующих авторов. Борьба с фашистскими идеями в истории очень быстро стала неактуальной после победы. Поэтому можно было рассчитывать только на самый постыдный вариант того же приема — подвергать яростной риторической порке тех, кто уже пострадал (был уволен, переведен на менее престижную работу); при этом, конечно, желательно было не добавить к уже имевшимся в адрес данного лица обвинениям какие-либо новые, которые могли дополнительно осложнить его положение.
Другой прием, совсем не редко используемый, — назначить виновного. Если ставить целью не увольнять всех, кто может потенциально пострадать, то следует уволить или «проработать» одного, но сделать это с максимальной помпой. Это делалось с помощью собрания партактива, на которое являлись и другие работники, и далее начиналось представление, в котором говорилось о грехах обвиняемого, который каялся или частично оправдывался и обещал все учесть, а затем выступали по очереди все (или почти все), сурово критикуя товарища и частично оправдывая (или нет) его; в конце побиваемый каялся вновь. Эта практика, унижавшая всех своей в сущности каннибалистической ритуальностью, тем не менее не гарантировала ни спасения обвиненному (хотя нередко участники обсуждения старались перевести критику на частные вопросы), ни прекращения серии «проработок» с остальными.
Наконец, можно было руководителю взять вину на себя или всему коллективу в тех или иных формах заняться самокритикой. Это как бы должно было разделить на всех тяжесть ответственности и вывести из-под удара конкретных лиц. Но этот прием требовал сплоченности и доверия в рабочем коллективе, а кроме того, все равно был рискованным: снять руководителя, признавшего ошибки, тоже могли вышестоящие начальники, боявшиеся обвинений в нерешительности. Наконец, не следовало забывать, что у научного сообщества далеко не всегда были шансы решить проблему в своем кругу — ведь нередко импульс приходил извне, когда в печати появлялась разгромная рецензия, автором которой мог быть не просто не специалист по вопросу, а вообще не историк.
Конечно, в той или иной мере эти приемы самозащиты сообщества можно было сочетать, но легко видеть, что хорошего выхода из ситуации, в которую попадала кафедра или институт, они почти не предполагали. Привыкая участвовать в общественных ритуалах поругания чужих ученых и своих коллег, историки советского времени, конечно, не испытывали от этого радости или удовлетворения — у многих было в прошлом то, что делало уязвимыми их самих, большинство обладали достаточными способностями к аналитике, чтобы скептично относиться к вихляниям государственной политики, а фанатиков или глупцов всегда было ограниченное количество. Но личные интересы, которые можно было иногда справить «за счет» такой кампании, великий аргумент «раз наказали, то было за что», да и просто циничное, в уголовном стиле «погибни ты сегодня, а я завтра» отношение — все эти в сущности лживые оправдания позволяли смириться со сложившимися правилами игры и даже увлекаться ею.
Какое все это имеет отношение к тому, что в итоге выходило в качестве научных трудов? Об этом кое-что я постараюсь сообщить и в других главах этой части, сейчас же приведу только один пример, к сожалению, пока (а может, навсегда) недостаточно хорошо освещенный имеющимися данными, но при этом один из наиболее важных для понимания происходивших тогда процессов.
В 1949 г. после соответствующих проработок, начавшихся еще в 1948 г., из Ленинградского университета был уволен Соломон Яковлевич Лурье (1891–1964), филолог-классик, выдающийся эллинист и историк античной науки. Еще до этого он был освобожден от должности также и в ЛОИИ — Ленинградском отделении Института истории. В том, что это была инспирированная кампания, сомнений быть не может, и о ее последствиях будет сказано отдельно в одной из последующих глав, но сейчас нужно обратить внимание на другое — в обсуждении (а точнее, осуждении) деятельности Лурье в ЛОИИ в апреле 1949 г. участвовала М. Е. Сергеенко.
Сын Соломона Яковлевича — Я. С. Лурье — утверждал, что именно Сергеенко была главным застрельщиком во время обсуждения в ЛОИИ. Сын писал со слов отца, которого не было на заседании (он лежал в больнице) и которому сообщали информацию сторонники (прежде всего И. Д. Амусин (1910–1984)). Все упоминания о Сергеенко в книге Лурье сугубо отрицательные, и вызвано это, судя по всему, как раз этим ее выступлением. Детали его могли быть преувеличены, но в том, что оно было, сомневаться не приходится: архив сохранил стенограмму, и в ней многие отметились критикой Лурье, в том числе К. М. Колобова, Сергеенко, Струве. Однако фактически их тональность одинаково сводилась к переквалификации общего вопроса на частные грехи Лурье.
Амусина и, соответственно, Лурье сильно задело лицемерие Сергеенко: за день до заседания она заявила Амусину, что, как пожилая женщина и верующая христианка, думает о душе и не будет участвовать в травле. Конечно, бесполезно задавать вопрос, как Сергеенко сама для себя объясняла свое выступление: тем ли, что критиковала гораздо умереннее, чем могла бы, или чем-то еще — взгляды обвиняемых и обвиняющих на совершившееся редко совпадают. Но если обратиться от мемуаров к стенограмме, то главное впечатление от нее: Сергеенко свела весь вопрос к частной проблеме работы над переизданием «Корпуса Боспорских надписей», который курировал Лурье.
Она достаточно пространно поясняла, как начал работу по доработке «Корпуса» сам автор первого его издания В. В. Латышев (1855–1921), а далее приводила примеры того, как была проделана работа по внесению в первое издание исправлений, подготовленных Латышевым. Никаких «политически заостренных» выводов Сергеенко не делала, говоря лишь о некачественном выполнении пояснений к надписям, иллюстрируя это достаточным количеством примеров, причем подчеркивала, что основная вина за такое исполнение лежит не на Лурье, который курировал издание целиком, а на Б. И. Наделе (1918–2014), которому была поручена сверка и исправление комментариев (лемм). Архив сохранил первоначальную стенограмму и правку Сергеенко, которая несколько смягчила (и сделала более литературным) «беловой» вариант своего выступления; приведу слова из раннего варианта, хотя и допускаю, что они могли быть несколько искажены стенографисткой:
К порученной работе Надель отнесся недобросовестно, обманул доверие Лурье, поставив его в тяжелое положение. Самому С. Я. Лурье надо поставить в вину излишнюю доверчивость, что он не считал себя обязанным ознакомить сектор, в форме конкретного показа, что сделано, а не только в форме общих фраз, оказавшихся, к сожалению, бессодержательными.
Казалось бы, здесь видны все признаки отведения удара: подробное описание частной проблемы, уход от идеологического пафоса, обозначение основным виноватым уже уволенного младшего научного сотрудника. Но дополнительная проблема заключалась в том, что Надель был не просто учеником Лурье, но и мужем его племянницы, и это могло читаться как обвинение в семейственности — частый пункт в списке претензий, высказывавшихся во время кампании против космополитизма. Сергеенко должна была знать об этих родственных связях, тем не менее в тексте стенограммы нет никаких упоминаний об этом.
Наверное, Сергеенко могла (в отличие от активистки Колобовой) пойти на отказ выступать в принципе, и, казалось бы, вся предшествующая стратегия ее поведения предполагала именно такой выбор. Но дело в том, что как раз в эти годы ситуация для нее меняется: она подготавливает к печати первую свою книгу, «Помпеи», которая выйдет точно во время кампании против космополитизма. И конкретно на эти годы приходится концентрация лоялистских высказываний в работах исследовательницы. В статье о Катоне она замечает, что трудное место о сравнительной доходности поместий превратно толкуется буржуазной наукой и должно быть пересмотрено советскими учеными. В небольшом предисловии к ее книге о Помпеях академик И. И. Толстой (1880–1954) дважды упоминал о «рабовладельческом строе», да и сама Сергеенко несколько раз говорит о рабовладении, — правда, всегда скороговоркой и без цитат из теоретиков марксизма.
Очевидно, что это очень небольшое количество шагов навстречу приверженности единой для советской науке парадигмы, но они все же были сделаны, и были сделаны именно в те годы, когда Сергеенко решилась участвовать в «проработке» Лурье. Можно сказать, что это запоздалое прохождение той стадии, которая передовыми советскими историками была освоена еще в начале и середине 1930-х гг. — воспроизведение обязательной теоретической рамки и порицание заблуждающихся. Сергеенко прошла эту стадию с минимальными потерями; опять же, она могла утешать себя тем, что увольнение Лурье было уже предрешено.
Тем самым любой, даже частичный, отказ от периферийности требовал в начале периода и более активной «общественной» позиции. Но позиция эта уже подразумевала только внешнюю лояльность, пусть даже эта внешность принимала самые неистово преувеличенные формы.
