Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Нижеследующие рецензии были опубликованы в журнале «Печать и революция» № 3 за 1922 год.
Юлий Айхенвальд. Поэты и поэтессы. М.: Северные дни, 1922
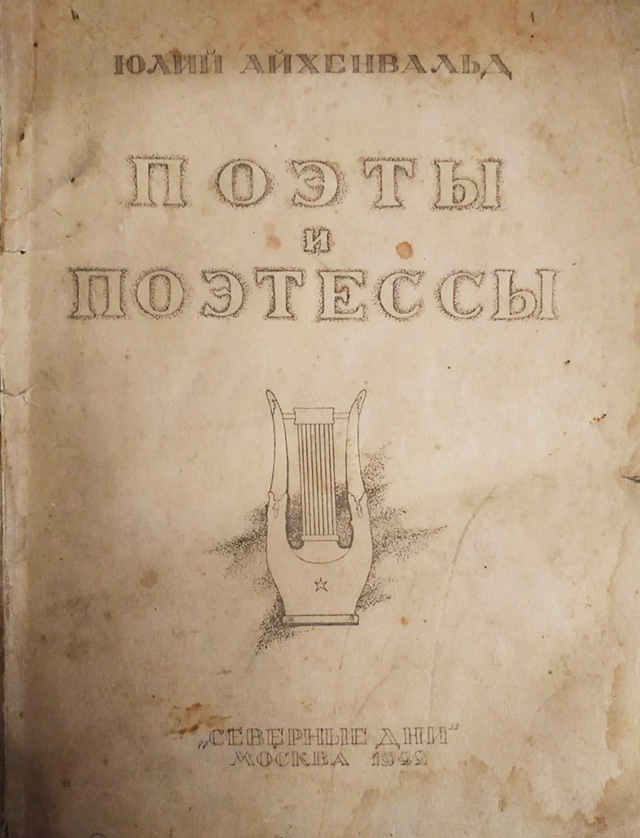 И терпентин [скипидар. — Ред.] на что-нибудь полезен... Айхенвальд существует для того, чтобы людям окончательно необразованным и глупым простодушно докладывать, что вот-де он читал такую-то и такую-то книжку и — разрешите я вам доложу, что вы, ходячая посредственность и голова, с трудом ориентирующаяся в четырех правилах арифметики, можете в этой, как говорят понимающие люди, умной книжке понять. И докладывает, вежливенько так, сладенько: толпы баранов слушают его. Однако нам чистый расчет, чтобы и баран чему-нибудь учился — наверное, он от книжки Айхенвальда уходит с чувством некоторого небесного просветления и чистой благодати, излившейся на его почтенное руно. Очевидно, что лекции дли баранов не очень интересны и заранее можно сказать, что там будет излагаться. Для любопытствующих предложим цитатки: «Скончался Блок — на лире современной поэзии оборвалась одна из ее певучих и драгоценных струн... Пытаясь сказать несказанное, он ткет паутинные сплетения лирики... очень трогательны, например, его стихи о маме... ...радость и страдание могут сочетаться воедино... присуще его поэзии легкое дыхание... и кажется, что обители лиризма приняли его теперь в свое вечное лоно». Гумилев: «Он в самом деле акмеист... романтик, борющийся за голубую лилию... принадлежит ему вся красота консерватизма... наш утонченный воин, наш холеный боец... он аристократ и гордый носитель самоуважения...» Ахматова: «явила образ женской души... так задушевны и проникновенны ее интонации... это пленительно». Еще глава, но та совсем уж о М. Шагинян. Как видите: глупо, скучно и черносотенно. Пишущий это боится, что он был несправедлив к баранам: нехорошо все-таки и их заставлять читать такое, и уж если на то пошло, то пусть они прямо читают Ахматову. Стыдобушка! В 1922 году некролога путно написать не умеем.
И терпентин [скипидар. — Ред.] на что-нибудь полезен... Айхенвальд существует для того, чтобы людям окончательно необразованным и глупым простодушно докладывать, что вот-де он читал такую-то и такую-то книжку и — разрешите я вам доложу, что вы, ходячая посредственность и голова, с трудом ориентирующаяся в четырех правилах арифметики, можете в этой, как говорят понимающие люди, умной книжке понять. И докладывает, вежливенько так, сладенько: толпы баранов слушают его. Однако нам чистый расчет, чтобы и баран чему-нибудь учился — наверное, он от книжки Айхенвальда уходит с чувством некоторого небесного просветления и чистой благодати, излившейся на его почтенное руно. Очевидно, что лекции дли баранов не очень интересны и заранее можно сказать, что там будет излагаться. Для любопытствующих предложим цитатки: «Скончался Блок — на лире современной поэзии оборвалась одна из ее певучих и драгоценных струн... Пытаясь сказать несказанное, он ткет паутинные сплетения лирики... очень трогательны, например, его стихи о маме... ...радость и страдание могут сочетаться воедино... присуще его поэзии легкое дыхание... и кажется, что обители лиризма приняли его теперь в свое вечное лоно». Гумилев: «Он в самом деле акмеист... романтик, борющийся за голубую лилию... принадлежит ему вся красота консерватизма... наш утонченный воин, наш холеный боец... он аристократ и гордый носитель самоуважения...» Ахматова: «явила образ женской души... так задушевны и проникновенны ее интонации... это пленительно». Еще глава, но та совсем уж о М. Шагинян. Как видите: глупо, скучно и черносотенно. Пишущий это боится, что он был несправедлив к баранам: нехорошо все-таки и их заставлять читать такое, и уж если на то пошло, то пусть они прямо читают Ахматову. Стыдобушка! В 1922 году некролога путно написать не умеем.
Сергей Бобров
Валерий Брюсов. В такие дни. Стихи 1919—1920. М.: Государственное издательство, 1921
 Когда мы теперь оглядываемся на наше близкое прошлое, годы, помечающие стихи этой книги, кажутся насыщенными таким несчетным количеством событий и ощущений, что перед ними невольно преклоняешься. Фрейд сказал бы, что преклонение происходит собственно перед самим носителем преклонения, т. е. перед самим собой. Может быть, он прав в своей области — области бессознательного. Мы сознаем себя часто бессильными дать этому дорогому прошлому страданию (его было много, но пропорционально много для людей, я не говорю о собаках) стойкую и достойную его модель. Поэтому всякая проба на этом пути, особенно если она связана с личностью исторического деятеля (а таким даже и для врагов является автор «Огненного ангела»), в наши дни особенно важна и радостна, именно в свете «таких дней». Многие сделают В. Брюсову упрек в том, что его книга, написанная в исключительно трагическое время, сохранила все элементы постройки его предшествующих сборников, но в этом и заключается особенный интерес: фикция мгновенных перерождений человека давно уже разоблачена, и сознательное ее афиширование неизбежно создает для современника неприятное ощущение неискренно нарочитой стилизации. Нам интересен настоящий Брюсов в период настоящей революции, и сборник отвечает нашему интересу не только в тех его отделах, где автор прямо говорит о политике (это для него новости не составляет: он и в самых ранних своих книгах писал стихи этого рода), но и там, где он говорит о «вечной правде кумиров», о мелькающих «ночах и днях», которые до сих пор не могут ему примелькаться. Говорить подробно про отдельные пьесы книги в пределах заметки невозможно: отмечу только интересный поворот в сторону «молодых приемов» Брюсова, оставленных им было со времени «Третьей стражи»:
Когда мы теперь оглядываемся на наше близкое прошлое, годы, помечающие стихи этой книги, кажутся насыщенными таким несчетным количеством событий и ощущений, что перед ними невольно преклоняешься. Фрейд сказал бы, что преклонение происходит собственно перед самим носителем преклонения, т. е. перед самим собой. Может быть, он прав в своей области — области бессознательного. Мы сознаем себя часто бессильными дать этому дорогому прошлому страданию (его было много, но пропорционально много для людей, я не говорю о собаках) стойкую и достойную его модель. Поэтому всякая проба на этом пути, особенно если она связана с личностью исторического деятеля (а таким даже и для врагов является автор «Огненного ангела»), в наши дни особенно важна и радостна, именно в свете «таких дней». Многие сделают В. Брюсову упрек в том, что его книга, написанная в исключительно трагическое время, сохранила все элементы постройки его предшествующих сборников, но в этом и заключается особенный интерес: фикция мгновенных перерождений человека давно уже разоблачена, и сознательное ее афиширование неизбежно создает для современника неприятное ощущение неискренно нарочитой стилизации. Нам интересен настоящий Брюсов в период настоящей революции, и сборник отвечает нашему интересу не только в тех его отделах, где автор прямо говорит о политике (это для него новости не составляет: он и в самых ранних своих книгах писал стихи этого рода), но и там, где он говорит о «вечной правде кумиров», о мелькающих «ночах и днях», которые до сих пор не могут ему примелькаться. Говорить подробно про отдельные пьесы книги в пределах заметки невозможно: отмечу только интересный поворот в сторону «молодых приемов» Брюсова, оставленных им было со времени «Третьей стражи»:
Земля? Зелененький мяч.
Луна? Нет совсем.
Человеческий плач
В пространствах нем.
Сравнение с прежними опытами этого рода показывает их значительное совершенствование автором за время разлуки с ними, а сходство их с манерой многих «молодых преемников» обнаруживает известный многим (к сожалению, не всем) факт, что современная лирика все еще продолжает разрабатывать задачи, поставленные ей лучшим мастером периода символизма.
Иван Аксенов
Лев Гумилевский. Может быть. Рассказы. Саратов: Скл. изд. кн. маг. производ. артели «Культура», 1922
 Гоголевский Ноздрев, как известно, обладал в числе прочих одной особенностью: во время котильона он садился на пол и хватал за полы танцующих. Дамы считали его поведение «скандалезным».
Гоголевский Ноздрев, как известно, обладал в числе прочих одной особенностью: во время котильона он садился на пол и хватал за полы танцующих. Дамы считали его поведение «скандалезным».
Теперь представьте себе этого скандалезного Ноздрева в наше время. Он уже достаточно «просвещен» и вполне постигнул несложную философию героев Арцыбашева и Сологуба.
Он выступает с книжкой рассказов, где есть повествование «о любви к революции». Здесь он вам от своего авторского имени развязно заявляет: «женщины всегда продаются: умные за деньги, глупые за слова, только и те и другие утомительно долго торгуются».
Начиная с первых строк первого рассказа «Млечный путь» вы чувствуете этот стиль газетного бульварного репортера — стиль, от которого веет скукой и непроходимой пошлостью.
И при этом что может быть смешнее философствующего Ноздрева? «Ныне все стало динамичным, все статистически устойчивое разрушается, сметается скоростью механического движения». А дальше видно, как автору понравилось слово «динамичность». На протяжении меленьких 16 страничек слова «динамический стиль», «динамика жизни» повторяются ровно 12 раз.
Впрочем, перлы ноздревского глубокомыслия рассеяны наиболее щедро в упомянутом уже рассказе «о любви и революции». Не угодно ли такой афоризм: «почему не любовью мерить время, не сменой женщин, которые дороги в эти дни? Что значит земное вращение, разделенное на 24, на 60 и еще раз на 60».
Автор рассказывает о какой-то замужней «Наташе», которая просит погладить коленки. Проделывая это, он глубокомысленно замечает: «от колена до края платья такое большое мучительное расстояние».
И при этом автор утешает себя: «революция пройдет — Наташа останется, а с нею те, кого унесет она на белых крыльях (?!) из Красного Огня неопаленными».
Дальше несколько перипетий из самых примитивных, чисто «клубничных» переживаний и опять глубокомысленный «ноздревский» афоризм: «многие женщины умеют одеться — и ни одна не умеет раздеться».
Даже к жуткой теме о голодном приволжском городе автор не мог подойти без «клубнички».
Сборник заканчивается рассказом «Белая вечность». В вагоне герой расстегивает податливой незнакомке платье.
А дальше идет словесная трескотня.
«В черном окне дождь огненных искр. В кусках ночи — бесконечность Вселенной. В синих светах звезд — опьянение бешеной скачкой вперед. В красном мерцании Марса — предупреждающий крик, и, прикоснувшись губами к светочам глаз, в которых прозрение, и прикоснувшись губами к губам, в которых теплота Вечности, — не странно спросить: «Ты любишь?» Не странно услышать: «Люблю».
Нет, гоголевский Ноздрев даже был проще своего достойного внука и не употреблял в таких случаях слов с больших букв: Вселенная, Марс, Вечность и т. д.
Вся эта пошлейшая болтовня находится на складе саратовской производственной артели «Культура», о чем и извещается на обложке бездарной книжонки.
Иван Кубиков
Hermann von Wedderkop. Paul Klee. Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1920 (Junge Kunst series, vol. 13)
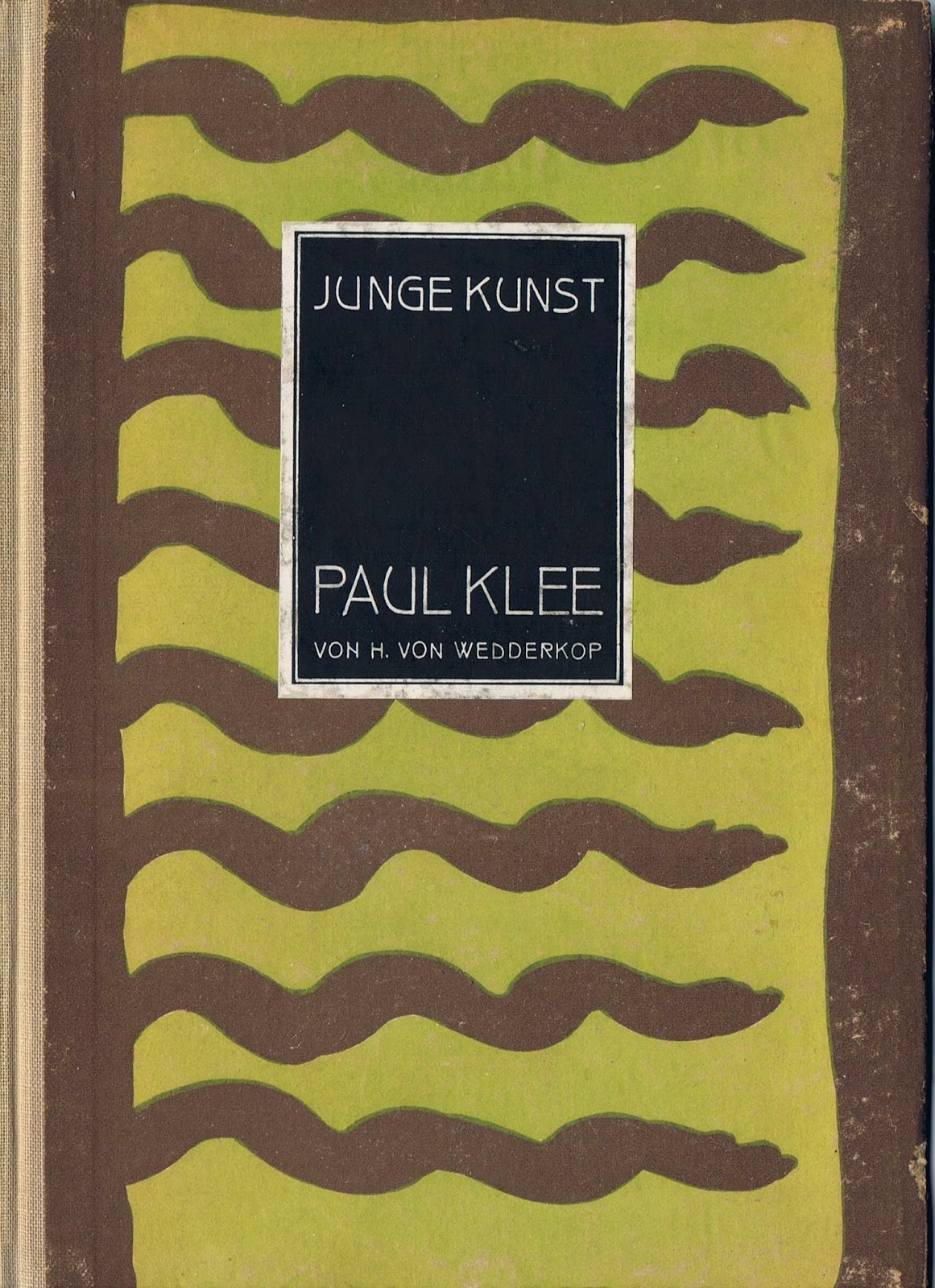 Серия Junge Kunst состоит из многочисленного ряда небольших, квалифицированно (с точки зрения современных германских условий) изданных монографий о новейших — немецких большей частью — художниках, принадлежащих к достаточно повсюду нашумевшему экспрессионистическому течению в изобразительном искусстве. Если не считать, однако, конспективных биографий, прилагаемых к каждой книжке, то литературный материал (теоретическая часть) этих монографий в огромном большинстве страдает либо легковесным дилетантизмом, либо метафизической абстракцией, ничего общего с искусствоведением не имеющей.
Серия Junge Kunst состоит из многочисленного ряда небольших, квалифицированно (с точки зрения современных германских условий) изданных монографий о новейших — немецких большей частью — художниках, принадлежащих к достаточно повсюду нашумевшему экспрессионистическому течению в изобразительном искусстве. Если не считать, однако, конспективных биографий, прилагаемых к каждой книжке, то литературный материал (теоретическая часть) этих монографий в огромном большинстве страдает либо легковесным дилетантизмом, либо метафизической абстракцией, ничего общего с искусствоведением не имеющей.
К последнему случаю надо отнести и книжку Веддеркопа, посвященную одному из крупнейших немецко-швейцарских рисовальщиков-живописцев, Полю Клэ. Мы не находим тут даже намека, даже попытки дать конкретный анализ произведений художника или хотя бы тезисное резюме такого анализа. В тех местах, где Веддеркоп касается геометричности Поля Клэ, непрерывности его линий, связи между линией и цветом, отношения художника к кубизму — всюду дело сводится к неожиданному и из опыта не вытекающему доказательству, что творчество Поля Клэ есть нечто самодовлеющее, единственное, ни с какими теориями не связанное. Автор все время пытается убедить читателя в полной независимости Клэ от господствующих в Германии художественных воззрений. Здесь имеется в виду, конечно, эмоционально-субъективистическая позиция экспрессионизма и, в частности, Кандинского (стр. 5). По мнению Веддеркопа, произведения Клэ представляют собою мир абсолютных форм, где материал потому не может выражать эмоций (как это нравится Кандинскому), что он дематериализован (стр. 10); формы Клэ — это формы, существующие в себе и для себя, и социологической эстетике, как откровенно утверждает неокантианец, неизвестно отчего забравшийся в искусствоведение, — здесь нечего делать: Клэ индивидуалистичен и единственен (стр. 11). И еще: искусство Клэ — «только живопись» (Nur Malerei), это формы сверхличного сознания, видимые и создаваемые личностью (стр. 10).
С торжественностью оригинального мыслителя выкладывая одну за другой эти избитые до тошноты мысли, автор пренаивно не замечает, что и он сам, и обоготворяемый им Клэ до глупости, до смешного идентифицируются с той многосотенной публикой, от которой они так тщательно отгораживаются. В самом деле: ну, не все ли равно, подсунем мы искусству эмоцию (по Кандинскому) или сознание (по Веддеркопу)? Будем говорить о самоцельной выразительности или о самодельной гармонии? Назовем материал средством для переживания или для видения? Разве в этом суть? И разве «социологическая эстетика» (к слову сказать, социологическая эстетика умерла, потому что умерла эстетика вообще; надо говорить о социологическом искусствоведении), столь неприятная Веддеркопу, позволит себя одурачить словесной эквилибристикой схоластов метафизики?
Поль Клэ является одним из виднейших представителей изображательско-самоцельного станковизма, переживающего сейчас полный распад (станково-живописная беспредметчина); он, так сказать, практик эстетского формализма в его рафинированном (единственное, в чем я согласен с Веддеркопом, не к его чести будь сказано), т. е., на языке марксизма, упадочном виде. Но тут никакой разницы между Клэ и Кандинским, разумеется, нет и быть не может. Оба они заживо погребенные историей художники. Их могила — это могила индивидуалистической буржуазии, их могильщик — пролетариат.
Было бы, однако, нелепицей отрицать крупный талант Поля Клэ. Но значение его лежит как раз там, где его a priori, догматично устраняет Веддеркоп — в реальных процессах художественного производства. Мастер непрерывного контура, линейно-живописной обработки поверхности и плоскостных построений, — Клэ, вероятно, внесет свою долю в технологический опыт искусства. Иными словами, он сыграет свою роль не тем, чего хочет (творчеством форм), а тем, чего не хочет (методами обработки материалов). Но для того чтобы сыграть эту единственно возможную для него прогрессивную роль, он должен сойти со сцены, умереть, быть преодоленным. Пока же его творчество остается орудием гибнущего и спасающегося в дебри эстетской мистики капитализма. Такова социальная диалектика. Ее реализацию мы наблюдаем у нас, в революционной России: это — путь от картины к производству, — путь классовой борьбы в искусстве. Клэ находится по эту сторону баррикады. И неудивительно, что в те дни, когда Германия корчится в революционных конвульсиях, биография Клэ, составленная им самим, красноречиво говорит о жизни художника, покинувшего поля войны: «Он радуется своему, богатому трудами, возвращению к тишине. Мечтая, творя, играя на скрипке» (стр. 16).
Бедный Клэ! Он, конечно, воображает, будто стоит вне классов, вне общества. Он и не подозревает, что этого-то «мечтая, творя, играя на скрипке» и требует от него его потерявший реальную почву класс.
Примечание. Книжка снабжена 33 недурными репродукциями с произведений Поля Клэ; одна из них цветная.
Борис Арватов
Петр Перцов. Ранний Блок. М.: Костры, 1922; Андрей Белый. Воспоминания о Блоке // Северные дни. Сборник II. М.: Костры, 1922. C. 131–155; Памяти Александра Блока (А. Белый, Иванов-Разумник, Штейнберг). П.: Вольфила, 1922; Корней Чуковский. Книга об Александре Блоке. П.: Эпоха, 1922
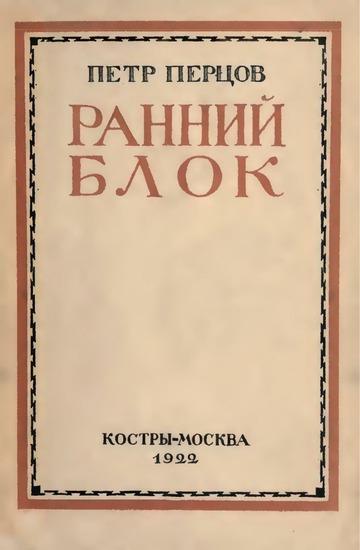 Для Блока наступает история. Прошло меньше года с его смерти, и уже ясно чувствуешь — поэт в прошлом, быть может, он скоро станет далеким. Есть что-то хрупкое, изысканно-кратковременное в его поэзии, и, когда перелистываешь критику или воспоминания о нем — чувство хрупкости только усиливается. Особенно подчеркивает это чувство небольшая книжка П. Перцова, посвященная «раннему Блоку». «Я и теперь считаю, — говорит он, — „Стихи о прекрасной даме“ самым чудесным из чудес Блока, и его дебют самым удивительным началом». Очень тщательно в книге собраны письма поэта, его забытые стихотворения, варианты. Рассказано о первых стихах в «Новом пути», о литературной обстановке того времени. Много незаменимых штрихов, все вместе — прекрасное, отвлеченное, замкнутое в грезе, мечте. Таким, вероятно, и был Блок этого раннего периода. Его «общественность», о которой иногда говорит Перцов? Общественность поэта с Соловьевым и символизмом, общественность, которой он в конце концов и не выдержал.
Для Блока наступает история. Прошло меньше года с его смерти, и уже ясно чувствуешь — поэт в прошлом, быть может, он скоро станет далеким. Есть что-то хрупкое, изысканно-кратковременное в его поэзии, и, когда перелистываешь критику или воспоминания о нем — чувство хрупкости только усиливается. Особенно подчеркивает это чувство небольшая книжка П. Перцова, посвященная «раннему Блоку». «Я и теперь считаю, — говорит он, — „Стихи о прекрасной даме“ самым чудесным из чудес Блока, и его дебют самым удивительным началом». Очень тщательно в книге собраны письма поэта, его забытые стихотворения, варианты. Рассказано о первых стихах в «Новом пути», о литературной обстановке того времени. Много незаменимых штрихов, все вместе — прекрасное, отвлеченное, замкнутое в грезе, мечте. Таким, вероятно, и был Блок этого раннего периода. Его «общественность», о которой иногда говорит Перцов? Общественность поэта с Соловьевым и символизмом, общественность, которой он в конце концов и не выдержал.
Многого можно было ожидать от воспоминаний и статьи А. Белого. Связанный с Блоком долголетней дружбой, в некоторых отношениях единством мировоззрения, он мог сказать о нем больше других.
Интереснее, свежее всего переданы биографические, бытовые черты. «Во мне было что-то исконное, московское, от доброго времени станкевичевского кружка, где гегелианизировали до такой степени, что свою гегелианизацию проводили в жизнь... разница была только в том, что тогда гегелианизировали, а мы „соловьевизировали“ и также старались Соловьева протиснуть даже в семейную жизнь. В А. А. не было совершенно московского духа, ничего от станкевического кружка». «Он был выдержанный петербуржец и мог казаться холодным — он, который был весь огонь».
«Говорил он мало. Говорил короткими фразами, которые подчас трудно вспомнить». Еще любопытны замечания о связи шахматовского пейзажа (подмосковной усадьбы) со стихотворениями «Нечаянной радости», любопытны мелочи из литературной жизни того времени.
Совсем иное впечатление оставляет статья-речь, произнесенная в заседании Вольфилы. Это очень неясная, очень натянутая попытка связать три книги поэта, пользуясь антропософской символикой. «Цвета Блока» толкуются в оккультном смысле: «сине-серый цвет эпохи 97–99-го годов сменяется красным цветом зари», потом «исчезает заря и появляется лилово-зеленый тон».
Быть может, кому-нибудь из «посвященных» это что-нибудь и говорит, но мы предпочитаем более простой способ мышления, доведенный А. Белым до какой-то принципиальной загадочности. Тут, как полагается, разбросаны суждения о «софийности», о Данте, о второй части Фауста, суждения, несмотря на мистический туман довольно поверхностные и сшитые на живую нитку.
Ясно одно — или стихотворения Блока должны выдержать испытание как стихи, как поэзия, или они только воспоминания, связанные с символизмом.
Нам думается, не стоит выдвигать последнего в ущерб первому. Поэтому гораздо правильнее поступил К. Чуковский, занявшийся Блоком как поэтом по преимуществу. Его книга — это, пожалуй, записки критика-читателя, не до конца полные, но ценные уменьем наблюдать, без псевдоучености. Конечно, здесь много психологии, переживания, субъективности, но без этого, в конце концов, не пишутся книги о поэтах. Основная мысль, поскольку речь идет о духовном облике Блока, — его двойственность (эту же черту отмечает Перцов). — «Тут та изумительная двойственность, в которой было главное обаяние лирики Блока: пафос, разъедаемый иронией: ирония, побеждаемая лирикой; хула и хвала одновременно. Все двоилось у него в душе, и причудливы были те сочетания веры с безверием, которые сделали его столь близким современной душе». Очень верно подмечена и тайна власти лирики Блока — его ритм, напевность, действовавшие помимо, иногда вопреки очевидному смыслу слов. Вообще книга Чуковского нам кажется наиболее ценной из всего сказанного о Блоке до сих пор.
Конечно, во всех статьях и книгах говорится об отношении Блока к революции. Этому целиком посвящена брошюра Львова-Рогачевского, которую мы назовем публицистической лирикой или лирикой публициста со всеми неизбежными недостатками такого жанра.
Почти все сходятся в оценке «Двенадцати» в том, чем была для Блока революционная Россия. «Несомненно, — говорит Чуковский, — нашу революцию он принял лишь постольку, поскольку она воплотила в себе русскую народную бунтующую душу, ту самую, которую воспел, напр., Достоевский».
Эту мысль с некоторыми оттенками можно встретить и у остальных авторов, так или иначе, но она представляется наиболее правдоподобной.
Константин Локс
