Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Жюль Мишле. История. Подарочное издание в десяти книгах. М.: Ладомир, 2022. Издание подготовили Ю. В. Гусева, А. В. Гордон, Н. Т. Пахсарьян
Ю. В. Гусева
От переводчика
1
Прославим, братья, сумерки свободы...
....................................................................
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля.
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.
Осип Мандельштам
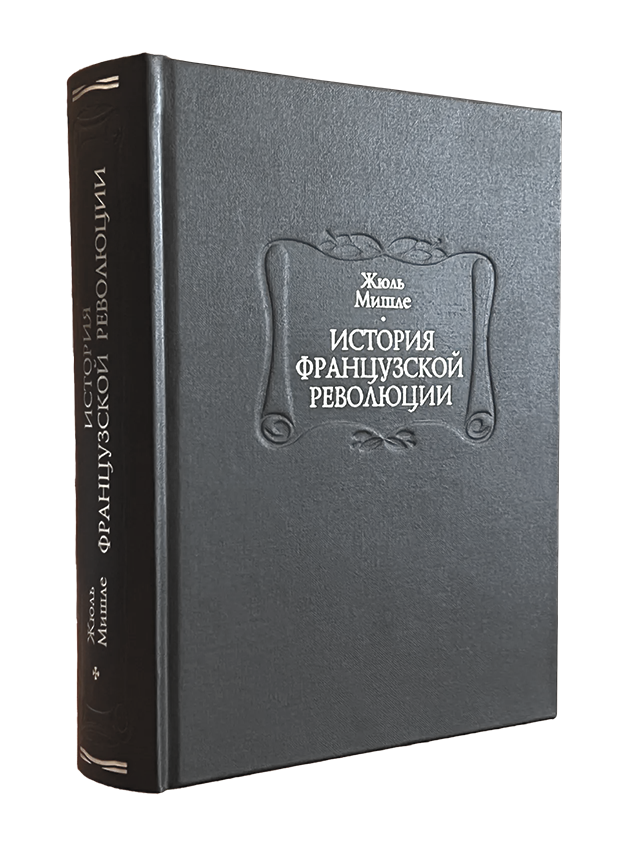 У книг, как у людей, свои судьбы. Иным дарован быстрый и шумный успех, за которым приходит забвение. Другие безмолвно стоят на полках магазинов и библиотек в ожидании даже не своего часа — он не наступит, — а своего читателя, быть может, единственного. Немало и тех, кто идет к читателю долго и трудно, путями неисповедимыми, годами и десятилетиями. Порою возвращается через годы забвения, когда тонкая нить их судьбы вдруг нежданно и уже неразрывно вплетается в судьбы стран и народов. Одни легко и быстро выходят из-под пера или клавиатуры компьютера, другие рождаются в муках, как появляется на свет человек. Одни остаются в конечном итоге всего лишь бумагой, lettre morte, мертвою буквой. На страницах других в типографских знаках на белых листах дышит жизнь. Такие книги входят и в жизнь читателей и способны ее изменить или просто побуждают задуматься о прочитанном — пережитом, — сопереживать событиям и героям, оставляют след в памяти и в душе. К ним относится и «История Французской революции» Жюля Мишле; такою она стала для многих поколений французов (и испанцев — благодаря замечательному переводу Висенте Бласко Ибаньеса*Последнее его переиздание, без цензурных купюр, вышло в 2008 г.). Теперь эта книга приходит и к читателю русскоязычному.
У книг, как у людей, свои судьбы. Иным дарован быстрый и шумный успех, за которым приходит забвение. Другие безмолвно стоят на полках магазинов и библиотек в ожидании даже не своего часа — он не наступит, — а своего читателя, быть может, единственного. Немало и тех, кто идет к читателю долго и трудно, путями неисповедимыми, годами и десятилетиями. Порою возвращается через годы забвения, когда тонкая нить их судьбы вдруг нежданно и уже неразрывно вплетается в судьбы стран и народов. Одни легко и быстро выходят из-под пера или клавиатуры компьютера, другие рождаются в муках, как появляется на свет человек. Одни остаются в конечном итоге всего лишь бумагой, lettre morte, мертвою буквой. На страницах других в типографских знаках на белых листах дышит жизнь. Такие книги входят и в жизнь читателей и способны ее изменить или просто побуждают задуматься о прочитанном — пережитом, — сопереживать событиям и героям, оставляют след в памяти и в душе. К ним относится и «История Французской революции» Жюля Мишле; такою она стала для многих поколений французов (и испанцев — благодаря замечательному переводу Висенте Бласко Ибаньеса*Последнее его переиздание, без цензурных купюр, вышло в 2008 г.). Теперь эта книга приходит и к читателю русскоязычному.
Историческая монография, повествующая о событиях более чем двухсотлетней давности? Не только и не столько — подобное суждение было бы слишком поверхностным и поспешным. За почти 170 лет, миновавших со времени ее написания, историческая наука ушла далеко вперед, были введены в научный оборот новые комплексы источников, выработаны новые подходы к историческому материалу, новые методы работы с ним, возникли и продолжают возникать новые концепции осмысления исторической действительности и представления о ней в обществе. А также — не раз менялись оценки и вехи, критерии исторической истины и объективности.
Нужно отметить, что ряд исследователей давал вкладу Мишле в историческую науку более суровую оценку: от его младших современников Луи Блана и Эрнеста Амеля, написавшего жестко полемическую и по-своему не менее субъективную, чем труд самого Мишле, небольшую книгу «Мишле-историк», и вплоть до современных специалистов Пьера Нора и Пьера Шоню, который значение Мишле как историка отрицал в принципе. И если у последнего причиной столь категорического неприятия являлось прежде всего расхождение в оценках исторических событий (как и у еще одного критика Мишле — Ипполита Тэна), то другие специалисты обосновывали свою точку зрения более аргументированно, и в особенности в области фактографии их аргументация до сих пор остается в силе.
Тогда почему книга Мишле не затерялась среди множества трудов его предшественников и современников, которые ныне интересуют только узкий круг историографов? Почему к ней обращаются до сих пор, почему она по-прежнему волнует читателей и вызывает их живой отклик? Потому что она в первую очередь литературное произведение, обладающее огромными художественными достоинствами, произведение, своеобразное не только по своему жанру histoire romancéе («романизированная история»), побуждающему вспомнить о том, что Клио тоже муза, но и по стилю, яркости и силе художественных образов, богатству средств выражения. Именно это ставит Мишле в первый ряд французских писателей, и не только XIX века; именно это составляет вечную, непреходящую ценность его книги, как бы ни менялись литературные и исторические моды и веяния. И по праву его «История Французской революции» выходит в серии «Литературные памятники».
Один из главных приемов, используемых в книге Мишле, — метод «воскрешения» прошлого, вживания в историческую действительность в стремлении понять и воссоздать события и действующих лиц и дать им на страницах книги художественное воплощение, которое позволило бы полнее раскрыть эпоху перед читателем. Этот метод, дополняющий науку авторским воображением, не раз становился объектом критики. Если литературоведы XIX века Гюстав Планш и Шарль де Сент-Бёв трактовали это «воскрешение» буквально, окарикатуривая его, то историки-позитивисты из методистской школы предпочитали вообще принижать и даже отрицать историографическую значимость книги Мишле. Впрочем, Альфонс Олар, сам принадлежавший к этой школе — и при том обладавший глубочайшими познаниями по истории Французской революции, а в своих исследованиях строго следовавший критериям объективности и научности, — дал подобной «буквалистской» трактовке должную оценку. Тем не менее сдержанное отношение к труду Мишле сохраняется в некоторых научных кругах, и ярким примером здесь служит Пьер Нора, исследователь исторической памяти, который, говоря об «интегральном воскрешении прошлого» у Мишле, оценивает такой подход как случай «истерии в клиническом смысле слова». Оставив в стороне подобный тезис, сам по себе характеризующий степень объективности и беспристрастности его автора, попробуем разобраться, насколько работа Мишле с историческим материалом, которую можно охарактеризовать как междисциплинарный синтез истории и литературы, остается в рамках научности, — ибо и по этому вопросу в историографии существуют различные концепции.
Многие из них — на новом историографическом уровне — подтверждают обоснованность того подхода, который Мишле избрал в своих трудах, скорее эмпирическим, интуитивным путем. Характерны, к примеру, следующие слова современного немецкого историка Карла Шлёгеля:
«Как это ни странно звучит, мы, современные историки, обладаем огромной властью... Это мы, живые, заставляем мертвых говорить, предоставляем свой голос тем, кто не может сказать ни слова...
Работа с историей требует дистанции, но также и сопереживания, без которого нет понимания. Требуется комбинация, которая знакома нам из этнологических исследований, — „включенное наблюдение“ в течение длительного времени».
Слова, как будто сказанные о Мишле, напрямую перекликающиеся с тем, что писал он сам; ср. его рассуждение из письма к литературоведу Эжену Ноэлю, о работе над «Историей Революции»:
«Не осталось даже костей. Лишь горстка пепла в моих руках; я отдаю ей свое дыхание, чтобы она ожила. Слишком многие не оставили по себе ничего, кроме своих деяний. Они не стали писать ни воспоминаний, ни оправданий. И это пытаюсь сделать я; я становлюсь их памятью».
И далее современный историк признаёт:
«Часто говорят, что историографией лучше всего заниматься sine ira et studio (без гнева и пристрастия), что объективность возможна только на расстоянии и при преодолении личных отношений с субъектами и событиями. Я думаю, что верно обратное, и это больше соответствует специфике исторической работы: cum ira et studio (с гневом и пристрастием)».
Констатация невозможности исторической объективности, недостижимого идеала, к которому не стоит и стремиться? Во все времена (начиная с Тацита, который первым употребил это латинское изречение в первой книге своих «Анналов») историки по-разному пытались разрешить для себя эту «квадратуру круга». Так, французский исследователь Жан-Батист Дюрозель в предисловии к своей истории французской внешней политики во время Второй мировой войны (в которой сам принимал участие) приходит к выводу:
«Историк, каковы бы ни были его чувства как гражданина, должен прилагать все усилия, чтобы не дать эмоциям увлечь себя <...>. Он обязан объяснять любое поведение, любую политику. И пусть каждый читатель делает из этого свои выводы».
 Но Мишле удалось найти соприкосновение между этими, казалось бы, несовместимыми точками зрения. Ибо при всей своей субъективности, а нередко и пристрастности, обусловленной избранной методой «включенного наблюдения», вживания в исторический материал, он стремится как бы изнутри понять и объяснить побудительные причины событий и мотивы персонажей и тем самым, пусть и не всегда, приходит к их объективному осмыслению.
Но Мишле удалось найти соприкосновение между этими, казалось бы, несовместимыми точками зрения. Ибо при всей своей субъективности, а нередко и пристрастности, обусловленной избранной методой «включенного наблюдения», вживания в исторический материал, он стремится как бы изнутри понять и объяснить побудительные причины событий и мотивы персонажей и тем самым, пусть и не всегда, приходит к их объективному осмыслению.
Здесь возникает еще одна трудность: как человеку, не имевшему опыта личного участия в революционных событиях (Мишле, в отличие от многих его коллег-историков — Ламартина, Луи Блана и других — остался в стороне от Революции 1848 года, хотя и сочувствовал ей), описать их, раскрыть их суть? Французский историк, основоположник школы «Анналов» Марк Блок полагал, что «мы сознательно или бессознательно в конечном счете всегда заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где дóлжно, известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить прошлое».
Но мир, в котором жили и действовали люди прошлого, был иным, они видели его иначе. Может ли исследователь, не будучи их современником, приобщиться к их опыту, посмотреть на мир их глазами? И если Шлёгель дает на этот вопрос в целом отрицательный ответ, призывая лишь для максимального приближения «позволить многим голосам высказать свое мнение», то Блок решает его иначе. Признавая, что человек со временем сильно изменился, он добавляет:
«И всё же, по-видимому, в человеческой природе и в человеческих обществах существует некая неизменная суть. Без нее даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл».
И Мишле в своей реконструкции прошлого опирается на эту «неизменную суть», свое знание человеческой природы, но главное — на свою способность к сопереживанию, когда чужие радость и боль воспринимаются как свои собственные. Именно она позволила автору написать удивительно живую и яркую картину движения Федерации на начальном этапе Революции, позволив ощутить себя как бы частью его.
«„Так закончился лучший день нашей жизни“. Этими словами, написанными сельскими федератами в вечер праздника, в заключение рассказа о нем, я сам был готов завершить настоящую главу. Я поставил в ней точку, и ничего подобного уже не повторится. То был невозвратный момент моей жизни, где осталась часть меня, осталась навсегда, невосполнимо — я ясно чувствую это; она словно ушла в прошлое, в написанные мною строки».
Такой подход требовал от автора огромной самоотдачи, скажем даже, самоотречения, самопожертвования — ради того, чтобы точность исторического нарратива соответствовала и художественной правде. Отсюда пафос, эмоциональность, глубина (со)переживания, но при этом, даже ошибаясь порой в том, что касается отдельных фактов (следует принимать во внимание и состояние исторической науки в то время, и неизбежную при подобном подходе субъективность автора), Мишле в своем повествовании не допускает, с точки зрения искусства, литературы, ни одной фальшивой ноты. Не задумываясь о цене — в момент творчества вопрос так даже не ставится. Но, завершая свой труд, автор сознавал, сколь высока оказалась эта цена. «Никогда я так не растрачивал себя, как в этом ужасном сентябре девяносто второго, — писал Мишле своему зятю Альфреду Дюменилю во время работы над книгой VII „Истории Революции“. — Вы не можете представить себе отчаянного упорства, с которым я каждый день погружался в эту мýку». А литературоведу Э. Ноэлю он признавался: «С тревогою и тоскою вглядывался я в сумрак этого преддверия чистилища Франции. Со временем глаза привыкают; можно проникнуть вглубь и вернуться обратно, только с истерзанным сердцем... Я, словно Данте, выйду весь опаленный из этого огненного мира». И даже по завершении этого труда Мишле непросто было отрешиться от него, оставив в нем «часть себя», «свое дыхание»: «Эта книга пожирает меня изнутри, даже как будто законченная. Слишком много черной крови мертвых пришлось мне испить...». И если книга производит сильное впечатление и как историческое, и как литературное произведение, если на страницах ее бьется сердце эпохи, а строки кажутся опаленными пламенем прошлого — нужно помнить, чего это стоило.
Столь глубокая способность к сопереживанию, этот «дар роковой» позволил Мишле раскрыть еще одну важную сторону Революции: «На многих примерах я имел возможность убедиться, что жажда справедливости, возмущение и жалость к угнетенным могут перейти в неистовую страсть, доходящую до жестокости». Именно острое чувство сострадания побудило многих деятелей Революции, которые стали свидетелями и даже жертвами несправедливости и угнетения, столкнулись с голодом аномально холодной зимой 1789 года, вступить в смертельную схватку со Старым порядком. Это нашло отражение в ряде источников революционной эпохи, но остается непонятым или недооцененным многими исследователями. Примечательно, однако, что к аналогичному выводу — основываясь не только на изучении истории Французской революции, но и на трагическом опыте ХХ века, — пришла Ханна Арендт. Так, говоря о Руссо, ставшем, по существу, одним из идеологов Революции, она утверждала: «Он открыл в сострадании наиболее естественную человеческую реакцию на страдание других, а вместе с ним — и действительную основу всех подлинно „естественных“ взаимоотношений». Но каким образом сострадание к человеческим мукам способно на практике обратиться в свою противоположность, побудить действовать жестоко и беспощадно? Это противоречие имеет целый ряд объяснений. Так, Мишле в своей книге особо отмечает значение сохранившихся в обществе предрассудков, своего рода привычки к жестокости, унаследованной от Старого порядка, во многих отношениях недалеко ушедшего от Средневековья; не ускользнул от его внимания и такой фактор, как стремление отомстить за собственные страдания, заставив страдать других; рассматривает он и ряд случаев нравственной или психической патологии, которые проявили себя в условиях отсутствия сдерживающих факторов. Арендт, со своей стороны, подчеркивает коллизию между чувствами и разумом в сознании революционеров, их стремление во имя утверждения более справедливого общественного устройства просто искоренить препятствующий этому «порок»... Следует, однако, отметить и еще один мотив, который побудил некоторых участников Революции прибегнуть к насилию против своих противников, даже отрекаясь тем самым от декларируемых ранее собственных принципов, — оно понималось ими как защитная реакция. И даже не самооборона, поскольку далеко не все из них рассматривали эту проблему под углом сохранения личной власти или собственной жизни. Когда на человека нападают, он защищается, пока у него остаются силы, пока он не решает сдаться. Но если он защищает не только и не столько себя, но и своих близких, когда речь идет об их жизни, он просто не вправе отступить. Этот пример позволяет понять поведение многих действующих лиц, волею Революции оказавшихся в различных ее лагерях, потому что за спиною у них были даже не просто родные и близкие, а народ, страна, за которых они чувствовали себя ответственными. И, даже загоняя себя вместе с ними в кровавый тупик — и сознавая это, — они не видели ни единой возможности сдаться или отступить. Это не служит их оправданием — представляется, что историк вообще не должен брать на себя обязанности адвоката, прокурора, судьи, тем более с высоты прошедшего времени и опыта, неведомого участникам событий. Вероятно, прав Карл Шлёгель, видящий задачу историка в том, чтобы быть свидетелем, хоть и не очевидцем. И именно таким свидетелем выступает в своей книге Мишле, пусть и не всегда последовательно, примеривая порой на себя и другие роли на «суде истории». Разумеется, как всякий свидетель, он имеет собственное отношение к событиям, свои симпатии и антипатии. Но главное, что следует подчеркнуть, он — свидетель защиты Революции.
Прежде всего Мишле доказывает ее необходимость. Во «Введении» он убедительно демонстрирует, что Революция непосредственно выросла из общественного кризиса, охватившего Францию Старого порядка, раскрывает как социально-экономические, так и политические ее предпосылки. Разумеется, за истекшее время общественные науки ушли далеко вперед, но нужно признать, что ряд выводов Мишле находит подтверждение в трудах последних десятилетий, посвященных теории революции, в частности, в исследованиях Т. Скочпол, Ч. Тилли, Ч. Джонсона, который, в частности, выводит необходимость революции (а не эволюционных изменений) из утраты дореволюционными властями легитимности в глазах значительной части населения в силу их неспособности справиться с кризисной ситуацией, говоря о «дефляции власти».
Здесь прослеживается определенное сходство и с концепцией революционной ситуации, которая включает в себя сочетание нарастания протестной активности масс и кризиса в рядах правящей элиты. Современные политологи М. Беннани-Шраиби и О. Фийёль выделяют следующие характерные особенности революционной ситуации: рост протестных настроений у значительной части населения, размывание социальных границ и формирование широких межклассовых коалиций (со стороны низов) и колебания руководства, поиски новых способов управления и раскол правящей элиты (со стороны верхов). Все эти признаки выявлены и подробно проанализированы Мишле, который подчеркивает невозможность для большинства народа дальше терпеть несправедливость общества Старого порядка. В критической ситуации люди встают перед выбором: смириться с происходящим, пойдя против собственной совести, или заявить во весь голос о своем несогласии, о том, что мир, в котором они живут, может и должен стать лучше. И не только ради самих себя, но и ради других, ради своих детей, ради будущих поколений. Эту идею Мишле ярко и точно выразил, описывая чувства и мысли революционных бойцов перед штурмом Бастилии:
«...каждый в душе своей вершил суд над прошлым — и, прежде чем нанести удар, осудил его безвозвратно... Сама история, история долгих мук предстала пред ними в ту ночь и пробудила в народе инстинкты отмщения. Душа отцов, что в течение стольких столетий страдала и умирала в молчании, ожила в сыновьях и заговорила.
Сильные, стойкие мужчины, до тех пор совершенно мирные, кому предстояло в тот день стать орудиями самого Провидения, — мысль о семьях, не имевших иной поддержки, кроме вас, не смягчила ваши сердца. Нет, когда вы смотрели на своих спящих детей, чью судьбу должен был предрешить этот день, вы думали не только о них, но и о свободных поколениях, которые выйдут из их колыбели, и вы знали, что идете в битву за будущее!..
Будущее и прошлое давали один ответ, оба повелевали: „Иди!..“»

В этом устремлении революции в будущее через отрицание прошлого в обществе происходит смена ценностей, восставшие во имя более справедливого общественного устройства массы выдвигают новые общественные идеалы. Именно это, по мнению французских исследователей Жака Эллюля и Пьера Микеля, отличает революцию от бунта. Новые идеи овладевают массами, указывают им цель, побуждают бороться во имя ее достижения. Обоснованно подчеркивая идейные предпосылки Революции, заложенные Просвещением, Мишле четко проводит эту мысль на протяжении всей своей книги. И хотя следует признать, что он не сформулировал сколько-нибудь законченной концепции революции как таковой, он сумел выявить ее основную характерную черту. Разумеется, с позиций миновавших со времен Революции шести десятков лет и собственного мировоззрения он подвергает эти идеи критическому разбору, особенно подчеркивая антиномию Спасения и Справедливости. Однако здесь имеет место скорее не противоречие двух целей, а несоответствие цели и средств. Французскую революцию породило именно стремление к справедливости (социальной и политической), неприятие угнетения, осознаваемого как несправедливое, и противопоставление ему свободы. По мнению философа Ж. Эллюля, для совершения революции «нужно, чтобы порыв к освобождению стремился к утверждению свободы». Во Французской революции это нашло выражение в знаменитой триаде «Свобода, равенство, братство» (в литературе существует мнение, что она сформулирована Робеспьером, но представляется более вероятным, что она зародилась в гуще революционных масс).
Этот лозунг не был реализован в полном объеме ни во времена Революции, ни в последующие годы и столетия. В результате некоторые специалисты, исходя из допущения, что «недостигнутое» тождественно «недостижимому», постулировали «утопичность» целей, провозглашенных Французской революцией. На это, впрочем, можно было бы ответить словами французского философа Поля Рикёра:
«Неосуществленные мечты, невыполненные обещания минувшего, короче говоря, все отметины будущего на сердце прошлого, реальны. Того, что стало для людей прошедших эпох несвершившимся будущим, не стереть никогда. И это нестираемое налагает обязанности на нас, предъявляет нам свои требования».
Но, так или иначе, перед каждым исследователем революционной эпохи встает вопрос: стоило ли стремление к общественному идеалу принесенных во имя этого жертв? Мишле, подчеркивая несправедливость идеи Спасения любой ценой и с глубоким сочувствием рассказывая о погибших в Революции, принадлежали ли они к ее протагонистам, противникам или случайным жертвам, — отвечает тем не менее на этот вопрос утвердительно. Можем ли мы с позиции сегодняшнего дня согласиться с подобной оценкой?
Прежде всего (хочется верить), опыт минувших столетий научил нас ценить человеческую жизнь — каждую, в ее неповторимости и невозвратности. С этой точки зрения смертная казнь неприемлема в принципе, по-новому и мучительно ставится вопрос освободительной борьбы, справедливых войн. Но как бы мы ни оценивали прошлое, мы не можем его изменить. Исследователь имеет дело с данностью, вмешательство в которую невозможно. Поэтому вопрос следует ставить так: что осталось нам от Революции, что из ее наследия и сегодня представляет важность для нас и что в нем перевешивает — положительное или отрицательное?
Констатируя, что отрицательный опыт тоже имеет большое значение и показывает, хотя бы в теории, чего не следует ни в коем случае допускать (и в частности — институционализации насилия), обратимся к позитивным сторонам Революции, идеалам, которые она провозгласила. Ибо, какие бури ни сотрясали бы человечество, в какой бы мрак ни погружалось оно временами, они, точно маяки, продолжают светить, указывая нам путь, на который мы неизменно возвращаемся, даже уклонившись от него далеко. По прошествии времен и испытаний можно признать уже, что эти ценности вечные. Это то «нестираемое», по П. Рикёру, в прошлом, которому нужно открыть будущее, или, по словам современного исследователя исторической памяти Себастьена Леду,
«акцентировать исторический освободительный опыт, относящийся к свободе, равенству, социальной справедливости, солидарности, защите природы: их следует понимать как общие блага, коллективное творение мужчин и женщин в истории».
Эти ценности нашли воплощение в «Декларациях прав человека и гражданина» 1789 и 1793 годов. Право на свободу, безопасность и сопротивление угнетению, свобода мнений, печати и совести; «Декларация прав» 1793 года добавила к ним право на равенство и провозгласила целью общества всеобщее счастье. Мишле находит удивительно верные слова для характеристики этого акта:
«...впервые высказанная мысль о том, что закон — не только механизм для управления людьми; он беспокоится о человеке, стремится защитить его жизнь, не хочет, чтобы народ умирал.
В чем отличие такого закона? В той трогательной черте, которая позволила Соломону на суде отличить настоящую мать от мнимой и отдать ей ребенка. Настоящая мать воскликнула: „Пусть он живет!“»
Эти основополагающие права вошли во «Всеобщую декларацию прав человека» ООН 1948 года, получили развитие в правах II поколения (социальных) и III поколения (коллективных), но до сих пор они, сами рожденные в революционной борьбе, требуют борьбы за свою реализацию повсюду в мире. И если вспомнить, что многие создатели первой «Декларации прав» (а она поистине была коллективным творением депутатов Учредительного собрания) и все три автора второй погибли на эшафоте и какое бессчетное множество людей отдали свои жизни за осуществление этих прав на протяжении минувших более чем двух столетий, — тем более бережно должны мы относиться к этим ценностям, завещанным нам Французской революцией. Ибо, в конечном итоге, взвесив все «за» и «против», следует признать, что провозглашение Прав человека остается ее высшим оправданием в истории.
2
Вскрыла жилы:
..................................................
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.
Марина Цветаева
Непросто разделить в «Истории Революции» Мишле историческую и литературную составляющие. Тем не менее приходится признать, что историописание в ней целиком подчинено задачам художественного творчества, даже помимо воли автора. Впрочем, он и сам, считая себя прежде всего историком, сознавал то, чтó теперь, через более чем полтора века, предстает перед нами со всей очевидностью и составляет особую ценность его книги. «Слишком много искусства! — соглашался Мишле с оценкой литературоведа Э. Ноэля. — Это мучит меня, но — не перестает изумлять...» И в другом письме к нему же признавался: «Как бы мне хотелось писать прозой! Словесный ритм преследует меня, превращая в какого-то недовершенного поэта». Действительно, в своих исторических произведениях, включая «Историю Революции», Мишле предстает прежде всего как писатель, даже «поэт в прозе», что обеспечило ему одно из ведущих мест во французской словесности XIX века, в одном ряду с такими великими мастерами, как Виктор Гюго и Гюстав Флобер (последний даже считал Мишле своим учителем).
Поэтический ритм Мишле захватывает читателя с первых же строк его книги. Эту музыкальность стиля подметили еще его современники, в частности Сент-Бёв и Ипполит Тэн. Впрочем, здесь историки соглашались с литературоведами, и авторитетный современный специалист Франсуа Фюре вслед за исследователем начала ХХ века Джеймсом Гильомом пишет о «неподражаемой музыке [Мишле], бессмертной, подобно великим произведениям искусства». И добавляет: «История Французской революции <...> под пером одного из величайших гениев французской прозы обретает яркие краски жизни, голос памяти, трепетную красоту, иными словами — характер исторического памятника».
Показательно, что Мишле, подобно многим композиторам, предпочитал работать в полной тишине. Порою же услышанные звуки помогали ему настроиться на нужный лад для работы над текстом. В этой связи характерно признание — лирическое отступление, — сделанное Мишле в книге XV:
«Сюжет этой книги уводит меня во мрак зимней ночи. Яростные ветра вот уже два месяца бьются в окна моего дома на холмах Нанта, и голос бури, ее рокот и вой сопровождают мой „Dies iræ“ 93-го года. Уместные созвучия! Они очень помогли мне. Многое, прежде не понятое, раскрылось мне здесь, в голосе океана (январь 1853 года).
И то главное, чтó он поведал мне в своем откровенном неистовстве, в резких завываниях над крышей, в мрачно-веселом позвякивании оконных стекол, даровало уверенность и утешение: этот разгул зимней стихии, казалось бы зловещий и смертоносный, несет в себе не смерть, но жизнь, глубокое обновление. Все разрушительные силы и яростные метаморфозы не в силах уничтожить вечную иронию природы, она ускользает от них, искрясь и ликуя.
Такова природа, такова моя Франция».
Глубокое чувство природы вообще характерно для поэтики Мишле, хотя собственно описаний природы у него немного и они строго подчинены требованиям сюжета. Оно находит проявление скорее в образном ряде, в метафорах, создает фон, на котором разворачиваются описываемые события.
 Этому же служит и другая характерная особенность стиля «Истории Революции», который писатель Андре Моруа назвал «свободным от оков синтаксиса». «Пластичность» стиля Мишле, его «вольное обращение с прямой и косвенной речью» подчеркивает и автор предисловия к переизданию «Истории Революции» в престижной серии «Плеяда» Пола Петитье. Конструкция предложения определяется не только следованием внутреннему ритму, но и необходимостью повествования. Нередко автор прибегает к такому литературному приему, как паратаксис. Есть основания говорить о паратаксисе применительно ко всему повествованию в целом: еще Сент-Бёв и Ролан Барт отмечали, что в его центре — события как таковые, между которыми далеко не всегда проводится причинно-следственная связь, как того требует научный подход. Нередко Мишле нарушает хронологию событий, и обусловлено это прежде всего художественными задачами. События группируются по внешнему сходству, их последовательность выстраивается по аналогии, ассоциации.
Этому же служит и другая характерная особенность стиля «Истории Революции», который писатель Андре Моруа назвал «свободным от оков синтаксиса». «Пластичность» стиля Мишле, его «вольное обращение с прямой и косвенной речью» подчеркивает и автор предисловия к переизданию «Истории Революции» в престижной серии «Плеяда» Пола Петитье. Конструкция предложения определяется не только следованием внутреннему ритму, но и необходимостью повествования. Нередко автор прибегает к такому литературному приему, как паратаксис. Есть основания говорить о паратаксисе применительно ко всему повествованию в целом: еще Сент-Бёв и Ролан Барт отмечали, что в его центре — события как таковые, между которыми далеко не всегда проводится причинно-следственная связь, как того требует научный подход. Нередко Мишле нарушает хронологию событий, и обусловлено это прежде всего художественными задачами. События группируются по внешнему сходству, их последовательность выстраивается по аналогии, ассоциации.
Не только в этих особенностях находит проявление литературный характер «Истории Революции», но и — прежде всего — в силе созданных автором образов, индивидуальных и коллективных, величайшим достижением среди которых следует признать портреты коллективные, масс, толп — народа. Именно народ изначально ставился автором в центр повествования. И в этой связи примечательно, как возник замысел работы над «Историей Революции». В 1841 году, завершая работу над исследованием эпохи Людовика XI (конец XV века), Мишле посетил Реймсский собор, поднялся на одну из башен и увидел размещенные на ней статуи мучеников. Историка поразило, что у всех них были лица людей из народа. И Мишле осознал, что, прежде чем продолжить работу над историей Средневековья, необходимо понять народ как движущую силу истории, понять народ через Революцию. Мишле откладывает в сторону «Историю Франции» и пишет в 1846 году книгу «Народ» — «поэму о французском народе». Тогда же составлен первый план «Истории Революции», начат сбор материала.
«Поэма о французском народе» — эти слова можно применить ко всем произведениям Мишле, в том числе к «Истории Революции». Еще до появления классических исследований по массовой психологии писатель удивительно точно и тонко передает чувства масс, участвовавших в событиях, малейшие движения в них, рисует живую и яркую картину народных выступлений. Можно со всем основанием говорить о коллективном (и, возможно, главном) герое книги, и здесь ощущается влияние Шекспира, с творчеством которого Мишле был хорошо знаком и о котором не раз упоминает на страницах «Истории Революции».
Для Мишле народ неизменно прав, ошибаются отдельные люди. И как противовес в книге почти нет положительных персонажей (а те немногие, что есть, — второстепенные).
В чем причины этого? Во-первых, в том, что над Мишле тяготел изначальный план 1846 года, где ведущим деятелям Революции и их сторонникам давалась резко критическая оценка.
Во-вторых, необходимость, по мнению Мишле, строгого суда истории:
«Когда видишь, как быстро уносит эти быстротечные жизни холодное дыхание смерти, сердце взывает о милосердии. Мы верим, что Господь был милостив к ним и многое им простил. Но историк — не Бог, и всепрощение — не в его власти. Описывая прошлое, он не вправе забывать, что будущее неизменно станет искать в нем примеры для подражания. Это не позволяет нам в наших суждениях всегда следовать велению сердца».
Портреты отдельных персонажей книги Мишле следует признать художественными образами. Являясь творениями автора, они неизбежно несут на себе отпечаток его представлений, его отношения к ним — и потому отнюдь не всегда соответствуют современным данным исторической науки. Однако образы их написаны Мишле столь убедительно, что не только запечатлелись в массовом сознании, но и оказали влияние на историографию.
Но, к чести Мишле, надо отметить, что, если в ходе работы над книгой им обнаруживались новые факты, он корректировал оценку персонажа, не пересматривая, однако, написанного ранее. Вот как разрешал сам автор могущее возникнуть здесь противоречие:
«Мы редко рисовали цельный, законченный, обособленный портрет в собственном смысле слова; все, почти все данные нами характеристики несправедливы, ибо мы показывали мгновенный сколок, своего рода проекцию персонажа в тот или иной момент, которая нивелировала и при этом неизбежно искажала всё доброе и дурное в нем. Мы оценивали поступки по мере того, как они происходили, день за днем, час за часом. Мы знали, где были несправедливы; и это позволяло нам хвалить тех, кого позже приходилось порицать».
Не менее ярки, чем основные герои, образы персонажей второстепенных, даже эпизодических — тени, выступающие из мрака времени, без лиц, без возраста, порой без имени, но и в них автор вдыхает жизнь. Этот творческий процесс — акт творения — прекрасно описан А. Камю в «Мифе о Сизифе», хотя там речь идет о работе артиста:
«...словно бы заново сочиняет своих героев. Он изображает их, лепит, он перетекает в созданные его воображением формы и отдает призракам свою живую кровь»; «Видимость может создавать бытие».
Это сотворение бытия через видимость, посредством одних только слов требовала от автора больших усилий. «Я... упорно тружусь над этим текстом, быть может, столь же убийственным для историка, что и для действующих лиц той поры», — признавался Мишле А. Дюменилю. Ибо за красотой и легкостью стиля кроется тяжкий труд, требующий огромных затрат эмоций и жизненных сил, которые «перетекают» в создаваемые образы. Чтобы они ожили на страницах книги, автор делится с ними своими чувствами, своим дыханием, биением своего сердца. «Что, как не человеческое тепло, могло возвратить к жизни того, кто порой слишком близко подходил к мертвящим ледяным водам Стикса?» Мишле говорит об одном из персонажей книги, но в действительности очень точно описывает собственные ощущения. И как здесь не вспомнить ахматовское: «Я голос ваш, жар вашего дыханья...» Или строки современного поэта Андрея Баумана:
Слагающий стихи
Говорит ради тех, в тех и во имя тех,
Чей голос отрезан от слуха и языка:
Говорит от имени
Всех погибших и заключенных в молчание.
Что дало автору силы завершить этот труд? То была пронесенная через всю книгу любовь к истории своей страны, своему народу. Об этом хорошо сказал Ромен Роллан, прекрасно знакомый с творчеством Мишле и испытавший его влияние, работая над своим драматургическим циклом о Французской революции: «Революция — как любовь: горе тому, кто не способен ее чувствовать». И нельзя не согласиться с Г. Сеайлем, автором предисловия к другой книге Мишле, «Ведьма»:
«Характернейшей чертой Мишле как историка является чувство жизни. Всё, что он воспринимает, становится в его душе жизнью, одухотворяется и очеловечивается. Жизнь же коренится — в любви. А любовь Мишле, страстная и трепещущая, подобная нетерпеливо расправляющимся к полету крыльям, не имеет ничего общего с отвлеченным мистицизмом, со смутными порывами, в себе самих находящими пищу, — нет, она вся — действие, вся — великодушие».
Это позволило Мишле показать через Революцию дух народа и через народ раскрыть суть Революции.
Нужно признать, что работа над «Историей Революции» была нелегка и для переводчика. Причем основную трудность представляла не передача художественного, поэтического стиля — это, в конце концов, вопрос переводческой техники. Самым сложным оказалось, выражаясь словами самого Мишле, «вдохнуть жизнь в это человеческое творение», воссоздать, «воскресить» образы прошлого во всей их жизненной силе, найти в себе те единственно верные слова, что обращают видимость, текст — в бытие.
В литературе не принято заканчивать статьи цитатами. Но представляется, что для переводчика это допустимо, потому что чаще всего он вынужден облекать свои мысли и чувства в чужие слова (впрочем, сам Мишле завершил книгу XXI своей «Истории...» изречением Вергилия). И в заключение мы сказали бы вместе с Луи Бланом, современником Мишле и также историком Французской революции (только в нашем случае речь шла о ее десяти годах): «На протяжении восемнадцати лет эта книга была делом, отрадой и мукою моей жизни». И вместе с Всеволодом Волиным, историком революции русской: «Этот труд — долг моей совести».
