Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
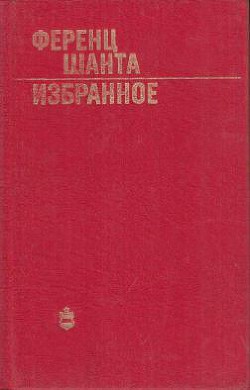 Он видел перед собой армию обездоленных — головы с отрезанными носами, рваными или обрубленными ушами, согбенные спины с натруженными плечами, с острыми ребрами под иссохшей кожей; животы, вздувшиеся от съеденной с голодухи травы и непрерывно поглощаемой воды; синие, прозрачные провалы щек, пустые глазницы, пугающие и потрясающие, словно разграбленные, зияющие могилы; не зажившие, гноящиеся запястья вместо отрубленных кистей; свисающие плетьми и вскидываемые наподобие подрезанных крыльев руки, — он видел, как эти люди в пугающем безмолвии движутся вперед, касаясь его рубища, текут мимо него, стоящего с простертою рукой. Слышал, как звенит, лязгает, скрежещет разрушаемый трон, вслед за этим распахиваются окна, — и повсюду разливается свет. Врывается свежий, напоенный весенними запахами ветер и несет на своей спине мятущиеся, обезумевшие стаи птиц, и аромат цветенья смешивается с туманом испаряющейся росы и спешит затопить все вокруг. Слышится серебристое журчание воды в далеких и ближних ручьях и ключах, природа звучит, словно огромный торжественный, все нарастающий хор, он сплошным потоком звуков окружает стены и, ликуя, воспевает и славит победу добра и истины. А он, скрестив на груди руки, стоит и пылающим взглядом смотрит на толпу, которая по-прежнему стекается сюда со всех четырех концов света, и люди кричат:
Он видел перед собой армию обездоленных — головы с отрезанными носами, рваными или обрубленными ушами, согбенные спины с натруженными плечами, с острыми ребрами под иссохшей кожей; животы, вздувшиеся от съеденной с голодухи травы и непрерывно поглощаемой воды; синие, прозрачные провалы щек, пустые глазницы, пугающие и потрясающие, словно разграбленные, зияющие могилы; не зажившие, гноящиеся запястья вместо отрубленных кистей; свисающие плетьми и вскидываемые наподобие подрезанных крыльев руки, — он видел, как эти люди в пугающем безмолвии движутся вперед, касаясь его рубища, текут мимо него, стоящего с простертою рукой. Слышал, как звенит, лязгает, скрежещет разрушаемый трон, вслед за этим распахиваются окна, — и повсюду разливается свет. Врывается свежий, напоенный весенними запахами ветер и несет на своей спине мятущиеся, обезумевшие стаи птиц, и аромат цветенья смешивается с туманом испаряющейся росы и спешит затопить все вокруг. Слышится серебристое журчание воды в далеких и ближних ручьях и ключах, природа звучит, словно огромный торжественный, все нарастающий хор, он сплошным потоком звуков окружает стены и, ликуя, воспевает и славит победу добра и истины. А он, скрестив на груди руки, стоит и пылающим взглядом смотрит на толпу, которая по-прежнему стекается сюда со всех четырех концов света, и люди кричат:
— Кого мы чествуем?
И им отвечают, указывая в его сторону:
— Его!
И земля раскалывается, вздымается вместе с ним ввысь, поднимая его над толпой, и он обращается к людям с такими словами:
— Возможно, до сегодняшнего дня вы даже не слышали моего голоса! А ведь я был с вами во всех ваших страданиях и ждал, когда пробьет час победы! Возможно, до сих пор вы считали меня трусом, видя мою склоненную голову и безмолвные уста. Я молчал, распростершись ниц перед троном. Я поступал так ради вашего блага! Душой и сердцем я жил среди вас, неся вам истину и надежду! И теперь вы можете торжествовать, чествуя день, когда я сделал вас свободными!
Глаза его пылали огнем. Он глубоко вздохнул и вытянул ногу. Отнял от груди руки и медленно, ровно выпустил из легких воздух.
— Уф, ну и заврался же я, — сказал он.
Выпустив дым, снова улегся на подушку:
— Конечно... если бы кто увидел меня в такой момент, он решил бы, что я полоумный...
Перевернулся на живот. Лицо его страшно побледнело, под глазами еще резче обозначились круги.
— Душа никогда не лжет! Разве те, в кабаке, знают, кого они топтали? Они топчут все, что свято, и, когда встречают кого-либо, кто за них остается человеком, смеются ему в глаза... Да знают ли они, что пинали ногами? Для них нет ничего, достойного уважения. Нет ничего, на что бы они смотрели с почтением, свои сомнения они выражают подло и грубо, как это они умеют... Врете! — заявил этот часовщик. Так нет же, господа! Это вы своим безразличием губите землю! Все принижаете до собственного низменного уровня!.. Вы — раковая опухоль человечества! Все вы, от первого до последнего, низкие людишки, которых надо смести прочь. Не меня вы оскорбили, в моем лице вы оскорбили человечество, которое безгрешно живет и трудится на земле. Какого наказания заслуживает ваше преступление? Пока вы, живя среди людей, подобно хорькам, распространяете вокруг себя зловоние, сеете сомнение и равнодушие, что может ожидать героя? Нет, господа, в вас нет никакой нужды... Человечество сметет вас со своего пути...
Он замолчал и продолжал лежать с открытыми глазами. Ему представился часовщик, трактирщик. Вот один из них стоит перед ним и кричит: вы врете! Другой, склонив голову набок, строго говорит: вы слишком раздражительны, чтоб я поверил вашим словам! Жалкие людишки! Он лежал на постели, и до самого рассвета в его голове зрела мысль о том, что за оскорбление, нанесенное ему и тем самым, разумеется, человечеству, следует отомстить. Правильнее было бы назвать это не мщением, а карой. Мстить можно и из низких побуждений. А человечество и добро — карают.
Самым целесообразным он счел отправиться утром в окружной комитет нилашистской партии и донести, что эти люди в его присутствии позволили себе кое-какие высказывания насчет двух членов нилашистской партии, зашедших выпить по стопке палинки.
9
Мебели в комнате было немного: залитый чернилами письменный стол, перед ним стул, у окон курительный столик с креслом.
Когда человек в штатской одежде вошел в комнату, высокий белокурый нилашист, тот самый, что в свое время первым зашел в кабачок, вскочил и вскинул вверх руку. Двое других — тот, что был в кителе с засученными рукавами, и один из его спутников, вооруженный револьвером, — стояли, прислонившись к окну. Они тоже вытянулись по стойке «смирно» и вскинули руки.
Вошедший был несколько выше среднего роста, с обаятельным лицом, каштановыми волосами и карими глазами. Судя по одежде и по манере держаться, его можно было принять за учителя или служащего. Костюм подчеркнуто прост, хорошего покроя. На пальце обручальное кольцо.
Кивнул головой.
— Все в порядке?
— Так точно, — ответил высокий белокурый нилашист. — Как я уже докладывал: пустячная история, мелюзга...
— Где они?
— Здесь, в соседней комнате...
— Трактирщик, часовщик... и кто еще?
— Трактирщик, часовщик, столяр, коммерсант...
— Что за коммерсант?
— Книготорговец.
— О!..
Он взглянул на двоих с револьверами, стоявших у окна:
— Вы уже приступили?
— Как раз собирались...
— Приступайте... — взглядом указал он на дверь.
Пройдя к курительному столику, штатский сел в кресло. Закинул ногу на ногу, пригладил волосы, затем сложил руки на колене.
Один из нилашистов отошел от окна, взял с письменного стола пепельницу и понес к маленькому столику. Щелкнул каблуками и, держась на почтительном расстоянии от столика, поставил пепельницу на маленькую салфетку.
— Благодарю! — кивнул человек в штатском. Нилашист снова отошел к окну.
— Мацак! — позвал блондин, кивком головы указывая на дверь.
Тот, что был с засученными рукавами, отстегнул ремень и направился к двери, которая вела в соседнюю комнату. Приоткрыв ее, тихо приказал:
— Живо одного!..
Еще один нилашист, в рубахе без кителя, ввел Ковача, держа его за плечо. Увидев человека в штатском, отпустил Ковача, щелкнул каблуками и вскинул руку. Повернувшись, бесшумно притворил за собой дверь.
Ковач растерянно обвел глазами освещенную электрическим светом комнату. Поднес руки к груди, сцепил пальцы, но тут же разняв, опустил руки.
— Не научился здороваться, детка? — спросил Мацак.
Ковач взглянул на штатского, затем на блондина за письменным столом.
— Добрый вечер... — произнес он, неловко поклонившись.
— Подойди ближе! — сказал высокий блондин.
Ковач снова взглянул на человека в штатском, потом на Мацака и направился к письменному столу. Блондин неподвижно смотрел на него. Перед столом Ковач остановился и снова неуклюже, на свой манер, поклонился. Нилашист, стоявший у окна, закурил и прислонился к подоконнику. Выпустил дым в потолок.
— Разговаривать разучился, детка? — спросил Мацак и, подойдя, остановился у Ковача за спиной. Он стоял совсем близко — столяр даже чувствовал на своем затылке его дыхание. Услышав за спиной сопенье нилашиста, Ковач облизнул пересохшие губы, нёбо тоже стало совершенно сухим.
— Простите... — обратился он к блондину.
— В чем дело? — спросил тот.
— Простите... — снова начал Ковач, сделал шаг вперед и снова, как только что, приложил руку к груди. — Я... Янош Ковач... столяр...
— В самом деле? — спросил нилашист.
— Да... — ответил Ковач, пытаясь сглотнуть комок, застрявший в пересохшем горле.
— Я по профессии столяр, у меня и патент есть. Я человек семейный. Я совершенно уверен, тут какое-то недоразумение! Совершенно уверен, меня с кем-то спутали... и не только меня, но я... всех, кого вам угодно было сюда привезти... Ничего другого и быть не могло... Может, вы проверите, кого... нужно было привезти сюда вместо нас...
— Куда привезти? — спросил блондин. Он не сводил с лица Ковача взгляда, спокойного и пристального.
— Сюда... простите...
— Куда?
Ковач, часто мигая, посмотрел вокруг и сделал неопределенное движение рукой:
— Сюда... извините...
— Я спрашиваю: куда «сюда»?
Ковач поднял было руку и снова опустил. Попытался еще раз сглотнуть, потом, поднеся руку к губам, прокашлялся.
И замолчал.
— Ну, вот видишь! Разве можно быть таким невежей? — спросил нилашист. — Невежество — коварная болезнь! Сейчас мы попытаемся тебе помочь, идет?
— Позвольте, — заговорил Ковач, — не знаю, почему вам было угодно... привезти меня... сюда! Лучше спросите, сделал ли я что-нибудь такое... за что меня полагалось сюда привезти? Я... честный столяр...
— Вот видишь, — сказал нилашист, — между нами явное недопонимание! Так кто ты есть, детка?
— Столяр... Мастер по столярному делу с патентом...
Блондин взглянул на нилашиста, стоявшего у окна.
Покачал головой:
— Ну что за навязчивая идея?!
И снова перевел взгляд на Ковача. Взгляд был сама безмятежность.
— Значит, если ты честный ремесленник, уважаемый столяр, то, к примеру, твоя жена — тоже честная женщина, а не потаскуха? Ты это имеешь в виду?
В первый момент Ковач непонимающе уставился на нилашиста, потом побледнел. Так и стоял с раскрытым ртом, чуть склонив набок голову. И вдруг, издав нечленораздельный крик, вскинул кулаки. И в тот же миг нилашист с засученными рукавами, стоявший за его спиной, схватил его за запястья и, дернув к себе, ударил по лицу. Резко завернув ему руку за спину, еще раз ударил в подбородок. Другой нилашист, стоявший у окна, не спеша, спокойно подошел и хлестнул столяра по щеке: Не нужно нервничать!
Блондин взглянул на штатского и заговорил:
— Как видишь, за ученье приходится платить! Напряги свои мозги и постарайся запомнить: ты самый обычный вор, жена твоя — грязная потаскуха, которая до тебя успела переспать с половиной города. Ясно? Заруби это себе на носу! Далее: если вор, чья жена — распоследняя потаскуха и проститутка, называет порядочных людей падалью, то порядочные люди этого не позволяют. Ясно? Они просто и без лишних слов доводят до твоего сведения, что ты червяк, которого надо раздавить, а так как башка у тебя глупая, с тобой объясняются самым доходчивым способом...
Нилашист с засученными рукавами вывернул Ковачу руку и, когда тот с криком отшатнулся назад, ударил его в пах. В то же мгновение второй нанес ему подряд несколько ударов кулаком в лицо. Когда Мацак выпустил Ковача из рук, тот рухнул на пол.
Блондин вышел из-за стола и остановился над лежащим:
— Прежде чем ты подохнешь, мы сочли полезным тебе это растолковать! Если не понял, скажи, мы объясним еще раз! Такой ничтожный червяк, как ты, должен делать свое дело и держать язык за зубами. А когда нилашистам — одному или, допустим, двоим — случится зайти в трактир, ты подползешь к ним на брюхе и будешь лизать им пятки. Дошло?
Ковач, сжавшись в комок, лежал на полу, прижимая руку к паху. Изо рта у него текла кровь и вырывался тяжкий стон. Однако, когда нилашист заговорил, он затих и, сотрясаясь всем телом, разрыдался, как ребенок.
— Ну, вот видишь! — сказал блондин. — Ты начинаешь соображать. Вот уж и на полу валяешься... из уважения к нам... А пока подохнешь, совсем умным станешь, даже жалко тебя будет!
Он носком сапога приподнял лицо Ковача:
— А теперь ступай и подумай!
И кивнул нилашисту с засученными рукавами. Мацак вместе со вторым подняли Ковача. Блондин открыл дверь, находившуюся позади письменного стола, и закрыл ее за ними.
Человек в штатском задумчиво смотрел перед собой.
— Неплохо, — сказал он. — Неплохо, но и не лучшим образом... Позволите несколько замечаний? Мы уже с вами разговаривали об этом, поговорим еще. Мне хотелось бы, чтобы в конце концов вы полностью осознали, о чем, собственно, идет речь, и не забывали моих слов...
Он поглубже уселся в кресло и сцепил пальцы. Подумал, потом заговорил:
— Прежде всего вы ошиблись в оценке! А именно: на мой вопрос вы ответили, что речь идет о совершенно пустячном деле. Вы ведь так доложили? Вот я и хотел бы просить вас поточнее объяснить мне, почему вы считаете это дело пустяком?
— Почему это пустяк? — переспросил нилашист и, опершись обеими руками о стол, подался всем телом вперед.
— Да...
— А разве не пустяк?
— Ответьте почему?
— А разве не понятно? Вчера застрелили двух наших братьев. Оба умерли! Позавчера бросили бомбу в помещение партии! Сегодня утром поймали двух подростков, которые разбрасывали листовки! Вот это не пустяки. Ну, а если в кабаке четыре человека обзывают нас падалью и убийцами, пьют свое вино и расходятся по домам... Разумеется, они и прежде называли нас падалью и убийцами и тоже пили свое вино и расходились по домам... В общем, болтали языком. Но когда люди не болтали? Поговорят, поговорят, а потом — к жене под бок. Вот почему это пустячное дело! Пока мы ловим тех, других, нам приходится идти на бесконечные кровавые жертвы. Те, другие, ходят с револьверами и защищаются до последнего патрона. А эти, мне кажется, револьвера даже не видели, а с патронами, думаю, и обращаться не умеют. Вряд ли даже придется их связывать перед расстрелом, они и под дулами будут стоять как ягнята...
— Вы хотите их расстрелять?
— Ну естественно!
— Тогда зачем вы их били?
— То есть как это зачем бил? А что с ними делать? Подарить по шоколадке или научить их вязать?
Человек в штатском задумчиво посмотрел на говорившего:
— Сколько вам лет?
Блондин вытянулся:
— Двадцать восемь!
— Ага! Студент-филолог?
— Да!
— Знакомы с творчеством Йохана Хейзинги?
— Да!
— Ортеги?
— Да!
— Тённиеса?
— Тоже...
— Откуда приехали?
— Из Кёсега.
— Довольно маленький городок?
— Маленький...
Человек в штатском опустил голову, коснувшись лбом сцепленных пальцев.
— Так, пожалуйста... зачем вы их бьете?
— Зачем бью?
— Да... И вообще — зачем вам нужны побои? Вы когда-нибудь задумывались над этим?
Блондин, отступив назад, прислонился к стене. И тоже на мгновение опустил голову.
— По праву предоставленной мне власти, — сказал он, подняв глаза. — По велению идейного гнева!
— И все?
— Думаю, да! О допросах я не говорю, тут все и так ясно...
— И только из-за этого?
— Думаю, да!
Человек в штатском встал и, засунув руки в карманы, принялся ходить по комнате. Открылась дверь, вернулись оба нилашиста.
— Оставьте нас одних, — сказал штатский. — Одним словом... — Он остановился напротив блондина. — Давайте я прежде всего исправлю одну вашу ошибку! Вот вы говорили о бомбах и прочем, так?
— Да, говорил!
— Так вот... в одно из партийных помещений брошена бомба — как раз это, на мой взгляд, пустяки! Разбрасывают листовки, черкают на стенах — пустяки! Стреляют по нашим братьям — пустяки! Мы хватаем замешанных, для порядка вешаем или стреляем в затылок — и это пустяки! Пустяки, пустяки и еще раз пустяки... Ну что из того, дружок, если нам придется немного повозиться с теми, кто швыряет бомбы, разбрасывает листовки или устраивает пальбу? Ведь их мы уничтожим как положено и в установленном порядке! Они умрут, дружок! С ними рано или поздно будет покончено! Из них выйдут прелестные трупы! Однако в стране они составляют незначительное меньшинство. Сколько? Тысячу, десять тысяч, двадцать тысяч?.. А как быть с остальными? Кто не стреляет, не бросает бомб и листовок? Как быть с ними?
Он поднял вверх палец:
— Эти остаются тут — они живут, дышат, — ими нам и придется заниматься! Они — на нашей шее, и именно они — наше настоящее дело. Мы живем в эпоху масс, господин учитель, в эпоху мерзких толп, и эти толпы никогда прежде не создавали о себе и своей роли таких иллюзий, как в наше время! Мне претит это мерзкое самомнение, которое в нашем веке позволяет себе толпа! Забастовки, демонстрации... где мы живем? Повсюду толпы... массы...
Он снова заходил по комнате:
— Ну, а этих четверых людишек мы, разумеется, не расстреляем! Иначе зачем мы их привезли, спросили вы, если не ошибаюсь. Зачем было вызывать машину, поднимать на ноги шофера, партийных активистов, руководителя группы? Очень просто: затем, чтоб этот ваш Мацак, или как его там, расквасил им нос, потоптал ногами, повывихивал руки, дал пинка между ног, а вы могли бы невозмутимо объяснить им, что их жены проститутки, хотя нет сомнения — все они честные и добропорядочные матери семейства. Еще затем, чтобы эти четверо усвоили — у вас есть право заявлять подобные вещи и вообще говорить все, что вздумается; право сворачивать носы, дробить зубы, отбивать почки, обзывать их ворами, а также, разумеется, право заходить, когда вам вздумается, в кабак, а то и в их дома, когда вздумается — хватать их, уводить и кровавить морды! Вот, господин учитель, ради чего вы прибегаете к побоям! Ради того, чтоб внушить: им не дозволено ничего, а вам — все! Вот поэтому вы их не убьете, а преспокойно, всех до одного, отпустите домой! Делать мертвецов легко, однако делать таких мертвецов, которые едят, пьют, работают и в то же время умеют держать язык за зубами, как настоящий, доподлинный мертвец, — это куда как труднее! Вам нужны не добропорядочные покойники, а живые люди, но столь же покорные и немые, как трупы! Иначе говоря, к побоям вы прибегаете из педагогических соображений, а не потому, что... — оставьте это газетам и ораторам. Конечно, скажете вы, тогда почему бы не тащить с улицы кого попало и не избивать поочередно всех подряд, независимо от того, натворили они что или нет! Но это значит, вы опять-таки не знаете жизненной философии этих людей! Знаете ли вы, как они поступают, что думают о жизни и о самих себе?
Он поднял голову, устремил глаза на потолок и, словно повторяя затверженный урок, заговорил:
— Мы маленькие люди, мы никто и ничто! Мы никак не вмешиваемся в дела мира! Быть может, мы — это их любимое выражение — лишь мушиное дерьмо на столе жизни! Единственное наше право — держать язык за зубами! Тс-с! Высокопоставленные лица делают с нами, что хотят. Мы целиком в их власти! Если нам что и позволено, так лишь втянуть голову в плечи, пусть история идет себе над нашими головами, а мы потихоньку останемся в стороне! И так далее... И тому подобное... Ну так вот! Ваша задача в том и состоит — доказать им, что это действительно так!
Он снова подошел и остановился перед блондином:
— Надеюсь, мы понимаем друг друга? Говоря с ними, вы должны только констатировать: да, все именно так, как вы думаете! Разумеется, они будут этим удивлены, ведь они думали не совсем так! Как же не так, скажете вы: вы очень правильно мыслили, а чтоб вы об этом не забывали, я и отобью вам почки, переломаю руки и все такое прочее... И разумеется, вы их не убьете, а отпустите домой, пусть разнесут по всем концам города — в Андялфёлде и Кишпеште, в Пеште и Буде, — что все именно так, как им представлялось: они — мушиное дерьмо на столе мира, и ничего больше! Другими словами: вам нужны не эмоции с розовой водой, а педагогика!
Он вынул из внутреннего кармана носовой платок и мелкими, легкими движениями осушил губы. Взглянул на блондина:
— Что касается этих четверых... теперь, я думаю, вы уже согласитесь со мной и отпустите их домой? Нужно только сказать этому Мацаку, или как бишь его, чтоб не миндальничал с ними, а взял в работу поосновательнее. Все, чем вы тут только что занимались, годится разве что для детского сада, а не для нас... И дождитесь утра, пусть пройдут по улицам и всем встречным выплачут свое горе!
— Слушаюсь! — ответил блондин. — В каком часу их выпустить?
— А я знаю? Когда рассветет... Но предварительно сообщите мне!
— Вы хотите с этими людьми побеседовать? — спросил блондин.
Штатский кивнул:
— Вы хорошо меня поняли? Все усвоили из того, что я сказал?
— Мне кажется, да!
— Совершенно уверены?
— Думаю, да! Я считаю, что...
Тут он расхохотался:
— Я рад, что попал под ваше начало! Кёсег, как я теперь вижу, все-таки только Кёсег!
Штатский махнул рукой:
— Лучше подумайте о том, все ли вы приняли в расчет?
— С этими четырьмя?
— Да! Поразмышляйте... Продумайте дальше ту логику, которую я тут развивал! Нет ли каких пробелов? Сделан ли конечный вывод?
Блондин пожал плечами:
— Не знаю, что вы имеете в виду...
— Очень жаль! Тогда, пожалуйста, проследите за моей мыслью! Конечно, они нас боятся — и это хорошо. К тому же ненавидят, что еще лучше, по крайней мере еще больше будут бояться! Какими они кажутся сами себе? Этот столяр попросил у вас прощения? Высказал что-нибудь вроде сожаления — больше, мол, не буду? Попросил прощения, обещал впредь быть паинькой? Слышали вы от него что-нибудь в этом роде?
— Нет... не слышал, — заколебался блондин.
— Вот и я не слышал.
Штатский обошел комнату. Посмотрел на часы, потом подошел к письменному столу и оперся о него, подавшись всем телом вперед:
— Я тоже не слышал! И не знаю, услышим ли мы что-нибудь в таком духе от остальных — книготорговца, часовщика и того, другого?
Он наклонил голову. При электрическом свете в волосах кое-где блеснуло серебро.
— Никогда не забывайте о том, что люди способны уважать себя лишь в той мере, в какой им удается сохранить порядочность, как они ее понимают. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эти люди не потеряли самоуважения... Они не просят прощения, дружок! У них еще сохранилось чувство собственного достоинства... Вы знаете что-либо опаснее этого?
— Я думаю, — сказал блондин, — они просто будут рады выйти отсюда...
— Разумеется... И только?
— Думаю, да! Вы ведь говорили об их философии! Жена... дом... картишки, стакан шипучки и покой! Все это они получат обратно!
— Только и всего?
— В этом смысле — да!
— И вы думаете, ради этого они пошли бы на что угодно?
— Не знаю... Возможно!
— Допустим, вы пообещали им целое состояние, если они совершат подлость и об этой подлости никто не будет знать, — как вы думаете, они предпочтут это состояние?
Блондин задумался:
— Я не уверен!
— А я уверен! — сказал штатский. — Они выберут состояние, лишь бы мир ничего не знал об этой подлости, не знал о заплаченной цене! Картишки, шипучка, честная, порядочная жена?! Чего им еще?! А если узнать поточнее? Если заглянуть им в душу?
— Все равно — они просто обрадуются, что можно пойти домой, что все это кончилось...
— Ошибаетесь! Они будут еще уважать себя за то, что подняли кулаки, когда Мацак набросился на них или когда вы назвали их жен потаскухами. Это вас не раздражает?
Он выпрямился и снова обошел комнату.
— Бунтовать, протестовать, возражать, вообще быть против... На это способен лишь тот, кто уважает себя! Я бы сказал — тот, кто уверен в себе самом! Или так: кто может положиться на себя! Что отсюда следует? Выпустить людей, которые нас ненавидят, боятся да еще и уважают себя? Могут в случае чего на себя рассчитывать? Вы допустили бы такую ошибку? Пока у них остается хотя бы намек на чувство собственного достоинства, пока теплится хоть искорка самоуважения — одного страха, одной боязни мало. И все ваши попытки вколотить этот страх им в сердце, в душу, в кости и... в мозговые извилины останутся тщетными!
Взглянув на блондина, он улыбнулся:
— Нужно исходить из того, что человек ужасно любит свою жалкую жизнь. Если он на многое способен ради богатства, то на что он пойдет ради спасения жизни?! Человек — слабое и, собственно говоря, гнусное существо! Жалкое отродье! Вы сами-то любите людей? Примите мои соболезнования... Гитлер, возможно, не знает, какую великую высказал мысль, призывая молодежь уподобиться диким зверям! Это отнюдь не случайная фраза. Это философия! Слава ему, и снимем перед ним шляпы!
Он взглянул на часы:
— Необходимо заставить их почувствовать отвращение к самим себе! Пока вы этого не добились, вы ничего не довели до конца! Ровным счетом ничего! Они должны опротиветь сами себе и презирать себя... Вот тогда дело сделано! Разбудите меня на рассвете, ну, а если вернуться к текущим делам, поставьте того парня с засученными рукавами вот тут у дверей. Следующего, как только войдет, сбить с ног. Окатить водой, едва придет в чувство, поднять на ноги и сразу же бить снова! Только после этого пусть его подведут к вам. А вам бить нельзя!.. У вас должна быть ясная и трезвая голова! Говорите! Вот ваша задача. Дождитесь минуты, когда стоны поутихнут, и говорите. Потом прикажите сбить его с ног и время от времени доверяйте своим парням бить, пока есть охота... За что бьют, в чем их провинность — об этом ни слова! Если им открыть, в чем их вина и за что их бьют, — страх будут испытывать только те, кто действительно совершил что-либо подобное. Пусть не знают за что! Пусть в этом мире страх владеет всеми — виновными и безвинными в равной мере!
