Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
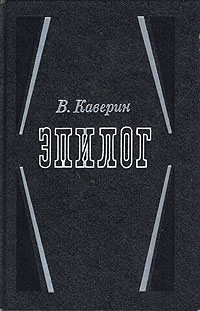 «Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями». Мне нелегко было написать это письмо, после которого наши отношения должны были рухнуть — и рухнули навсегда, бесповоротно. Легко ссориться в молодости, когда впереди — годы перемен и мерещится среди них трудная или легкая возможность примирения. Тяжко ссориться в старости, когда грубо, непоправимо, точно взмахом колуна, отсекается то, что некогда согревало душу. Нужна какая-то каменистая, ободранная всеми ветрами вершина, чтобы, спотыкаясь, цепляясь за колючий кустарник, с трудом взобраться на нее и, прикрыв ладонью глаза, вглядеться в прошлое.
«Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями». Мне нелегко было написать это письмо, после которого наши отношения должны были рухнуть — и рухнули навсегда, бесповоротно. Легко ссориться в молодости, когда впереди — годы перемен и мерещится среди них трудная или легкая возможность примирения. Тяжко ссориться в старости, когда грубо, непоправимо, точно взмахом колуна, отсекается то, что некогда согревало душу. Нужна какая-то каменистая, ободранная всеми ветрами вершина, чтобы, спотыкаясь, цепляясь за колючий кустарник, с трудом взобраться на нее и, прикрыв ладонью глаза, вглядеться в прошлое.
Кто же виноват? Что случилось впервые? Когда и почему повторилось?
Сущность дела заключается в том, что в течение всех этих сорока восьми лет отношения между нами были. Более того: в этих отношениях, менявшихся год от году, всегда звенела, пусть приглушенно, издалека, чуть слышно, нота молодой дружбы, искренней, бескорыстной, лишенной зависти и полной желания добра. Я знал, что ему нравится моя горячность, мое пристрастие к «алхимии» в литературе и то, что я считал «орденом» нашу маленькую группу, а ведь по отношению к ордену надо хранить нерушимую верность. В моих рассказах ему нравилось то, что они были выдуманы от первого до последнего слова, он всегда был близок к немецкой литературе, может быть, ему виделась «новая гофманиада».
В начале двадцатых годов он был редактором журнала «Книга и революция», и моя речь в связи со столетней годовщиной Гофмана так понравилась ему, что он даже напечатал ее, не предложив мне изменить ни слова. Что касается моего отношения к нему в начале двадцатых годов, то слово «нравиться» почти ничего не значит.
Я был влюблен в него, как влюбляются в старшего брата или друга в восемнадцать лет. И действительно, им можно было залюбоваться. Высокий блондин, широкоплечий, стройный, сразу же подкупающий вежливостью, умением подойти к собеседнику, очаровать его, найти его слабые стороны и — тоже из вежливости — притвориться, что он их не замечает: умелый спорщик, прекрасно владеющий собой, глубоко убежденный человек, — он тогда был действительно убежден в правоте своих взглядов, он производил впечатление благородной уравновешенности, если и нарушавшейся подчас, так неизменно по значительным поводам, заслуживающим внимания и уважения. Серьезностью, значительностью так и веяло от каждого его движения, каждого слова. Случалось, что он в споре загорался, большие серые глаза широко открывались, распахивались, бледное красивое лицо чуть розовело — я особенно любил его в такие минуты.
Мы придерживались мало сказать разных — прямо противоположных взглядов на литературу: я был горячим, хотя и небезоговорочным единомышленником Лунца с его призывом «На Запад!», он с первого же рассказа «Сад» заявил себя продолжателем традиции русской классической прозы. Но это ничему не мешало. Напротив, мне льстило, что тридцатилетний Федин относился к моим взглядам с уважением, хотя на серапионовских собраниях он иногда умерял мою пылкость.
В традиционность его взглядов входило тоже традиционное, характерно русское, приподнятое уважение к литературному труду. Над этой приподнятостью «серапионы» слегка подсмеивались — Слонимский, делая большие глаза и поднимая указательный палец, торжественно провозглашал: «Лите-ра-ту-ра!». Но напрасно подсмеивались. Это чувство вело Федина, им проникнута его переписка с Горьким, оно связывалось с понятием призвания, оно долго окрашивало его поведение в литературных делах. Я по молодости лет пылко сражался с его традиционностью, не догадываясь, что она-то, в сущности, и была связана с его порядочностью и долго, в течение многих лет, до тех самых пор, когда эта пресловутая и даже знаменитая фединская порядочность стала позой.
В 1921 году он вышел из партии — уже тогда это был не вполне безопасный шаг. Он заявил право на самостоятельность: «У меня полка с книгами, я пишу», — это было не так уж далеко от требования Лунца о свободе искусства. Когда Никитин подписал какой-то манифест одной из пролетарских литературных групп, он был в бешенстве — не потому, что подписал, а потому, что подпись косвенно отражала мнимую солидарность «серапионов» с этой группой. Я помню, как они схватились на очередной субботе, спор перешел на личности, Федин рванулся к Никитину, и если бы мы его не удержали... Впрочем, побледневший Никитин успел выскочить за дверь. Точно также, помнится, он пошел на Н. А. Брыкина, утверждавшего — это было на собрании в Ленклублите, стало быть, в начале тридцатых годов, — что Толстой и Тынянов не случайно, а с заранее обдуманным намерением уходят от современности в историю, подозрительно бойкотируя политическую жизнь страны. Мне кажется, что Федин уже переехал в Москву и оказался на собрании случайно. Из глубины зала он медленно пошел на Брыкина — он стоял где-то за рядами стульев, у выхода.
«Но если Толстого, который с еще небывалой глубиной и силой воссоздал перед нами петровскую Русь... Если Тынянова, под пером которого загадочная фигура Грибоедова раскрылась во всей своей исторической сложности...»
Он говорил о нетленном в литературе, о тех писателях, которые способны выразить эту нетленность, — да как же Брыкин смеет упрекать их, что они не пишут о колхозах...
Его голос все повышался, он уже не говорил, а гремел, и, когда, приблизившись к столу президиума, он взялся за спинку стула — не только у меня, надо полагать, мелькнула мысль, что сейчас он взмахнет этим стулом, и маленький, щупленький, беленький Брыкин рухнет, исчезнет без следа, провалится под землю. Он испуганно верещал что-то, пытаясь перебить своего неожиданного противника, уже неясно было — возражал или соглашался. Куда там! Голос русского литератора неожиданно взорвал очередное административное мероприятие — и это, без всякого сомнения, был искренний и независимый голос.
Когда началось раздвоение? И можно ли назвать этим словом ту, кажущуюся почти фантастической, перемену, которая произошла с ним в течение десятилетий?
Пусть мое предположение покажется странным, но мне кажется, что в нашем литературном кругу, где все обусловлено, он, если можно так выразиться, был гением обусловленности, ее выдающимся представителем. Весь, без остатка, он был суммой ее результатов. В двадцатых годах, в кругу «Серапионовых братьев», он был воплощением той обусловленности, которая создала возможность существования и деятельности этой группы. По мере того как он становился влиятельным деятелем Союза писателей, административное начало, вторгшееся в литературу, создало особый, взаимосвязанный мир обусловленности, который медленно, но верно становился его миром. Без сомнения, это не произошло бы, если бы у него был талант, в существе которого лежит стремление, почти бессознательное, сказать новое слово в литературе. Но у него был талант воспроизведения, повторения, а не созидания. В лучших вещах («Трансвааль») ему удавалось схватить и удачно изобразить явление. Но писать запоминающиеся характеры он не умел, а что стоит без этого умения прочно заземленная психологическая проза? В двадцатых годах слово, хотя и не без труда, складывалось со словом. Пот был виден, но еще было что сказать, и, несмотря на неуклюжую композицию, на стилистическую бедность (а подчас и корявость, на которую однажды в письме ко мне обратил внимание Горький), «Города и годы» и «Братья» были ощутимо нацелены на жанр романа. Замысел выполнялся, натяжки прощались, все здание еще можно было охватить одним взглядом: элементы его, хотя и кое-как, были соотнесены. Но начиная с «Похищения Европы» его книги уже не писались, а составлялись, и составлялись холодно, без полета, без ощущения власти слова, ведущего за собой другое слово, без той «зацепленности», которая заставляет перелистывать страницы, без той поэзии, которую так же надо тащить в прозу, как прозу — в поэзию.
Потом, должно быть в пятидесятых годах, кончилось и это. Гуляя со мной однажды по Переделкину, он пожаловался, что совершенно не в силах писать.
«Ты не поверишь, слово, как детский кубик, приставляю к слову».
Для любого подлинного художника это было бы трагедией. Для него — не более чем серьезным огорчением, потому что давным-давно он не то что не мог писать, но мог и не писать. У него уже была, как это ни странно, замена. «Да полно, — скажет читатель, — возможна ли подобная замена?» Возможна.
***
Было бы ошибкой недооценивать ту роль, которую играет Союз писателей для жизни почти каждого литератора в нашей стране. Это организация широко разветвленная, богатая, влиятельная, созданная (согласно уставу) с целью содействовать развитию литературы, а на деле энергично контролирующая ее. Труд контроля не только щедро оплачивается, но и создает для высших (и даже средних) чиновников ведомства особое положение. Их книги издаются многократно, большим тиражом; для критики — это каста неприкосновенных, невозможно увидеть на страницах газет и журналов отрицательный отзыв на книгу члена секретариата или главного редактора журнала. Для читателя — это (за редкими исключениями) авторы принудительно распространяемых неталантливых книг. Впрочем, это негативная принудительность: когда на книжных прилавках нет хороших книг — покупаются плохие.
Но то, о чем я рассказал, — лишь ничтожная частица этого сложного, многолюдного, живущего самостоятельной жизнью, размножающегося почкованием мира. Его история более чем занимательна, и ученый, который взял бы на себя нелегкий труд написать ее, не потерял бы времени даром. Возможно, что, работая над ней, он не раз бы вспомнил бы свифтовских лапутян или «Процесс» Кафки.
В течение десятилетий я принимал участие в работе Союза писателей. В 1938–1941 годах я был даже членом секретариата этой организации — впрочем, то была пора, когда это высокое звание ничего, кроме хлопот, не приносило. В Москве, после войны, я долго был заместителем Паустовского, руководившего секцией прозы. История развития Союза писателей и, одновременно, превращения его в род министерства (иерархического, как все министерства) прошла перед моими глазами. То, что я рассказал о нем, — лишь беглый очерк, необходимый, однако, для загадочного понятия — «замена».
***
Как могло случиться, что Юрий уже в начале тридцатых годов изображал Федина, сдернув со стола салфетку, ловко подкинув ее под локоть и склонившись в угодливо-лакейской позе? Предвиденье это можно назвать почти гениальным. В ту пору не было, казалось, решительно ничего, что могло бы послужить поводом к подобной карикатуре. Федин пользовался всеобщим уважением, и Юрий вопреки своему предсказанию разделял это чувство. Но что-то уже было, что-то было...
Вот сцена одновременно и незначительная, и говорящая о многом. Какой-то банкет, может быть, пятилетие или десятилетие Госиздата. Человек двенадцать писателей, кто-то из горкома, руководители издательства, и среди них заведующий Гослитом Ионов — старый большевик, добродушный, плотненький, с красным туповатым лицом. Произносятся речи, провозглашаются тосты. Федин берет слово, когда банкет в разгаре. Он вспоминает о своей работе в «Книге и революции», изящно шутит и т. д., но говорит слишком долго, и, может, именно поэтому Ионову, его соседу за столом, приходит в голову эта более чем странная идея. Я не верю глазам: глупо подмигнув кому-то из горкома, он спокойно выливает полный бокал вина в слегка оттопыренный карман фединских брюк.
Что сделал бы я на месте Федина? Не знаю. Взбесился бы и влепил пощечину зазнавшемуся ветерану. Но Федин... Это поразило меня. Не прерывая своей речи, он хладнокровно переложил носовой платок из правого кармана в левый. К счастью, мгновенно проступившие пятна были почти незаметны на темном костюме... Помню, что я позавидовал Федину. Он сделал вид, что ничего не случилось. Он не заметил того, что случилось. Он не вышел из-за стола до конца банкета. В том, как он держался, было достоинство, самообладание, даже, пожалуй, презрение. Но провозгласить тост за здоровье того, кто только что так нагло подшутил над тобой?..
Я далеко не уверен, что этот случай был одним из признаков будущей «замены». Десятки раз меня спрашивали — когда он стал другим, — и я невольно старался найти в молодом Федине те черты, которые подсказали Солженицыну выразительную оценку многолетнего председателя Союза писателей: «На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна на другую и без пропуска (и травлю Пастернака начал он, и суд над Синявским — его предложение). У Дориана Грея это все сгущалось на портрете, Федину досталось принять — своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведет наше заседание, он предлагает нелепо, чтобы я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледнивший его лицо, его череп еще улыбается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?»
***
В годы войны мы почти не встречались, и я стал бывать у него лишь в самом конце 1947 года, когда обстоятельства вынудили меня переехать в Москву. Тогда его никто не спрашивал, как и почему он стал другим. Более того, его книга «Горький среди нас» вызвала резкие нападки критики, пристрастные и несправедливые, потому что это была его лучшая книга. Он первым из писателей моего поколения попытался напомнить о том, что было намеренно забыто, и сделал это со всей добросовестностью, на которую тогда еще был способен. Книга была «серапионовская», и это необходимо отметить, потому что вопреки всем будущим сделкам с совестью в нем долго еще, поразительно долго, звучала обязывающая нота необусловленной молодости и не связанной по рукам и ногам литературы. В 1957 году, предательски выступая против «Литературной Москвы» на общем собрании московских писателей, он вплотную подошел к моему участию в защите этого единственного за многие десятилетия подлинно общественного альманаха — и, наткнувшись на мое имя, помедлил... И пропустил его, обошел, вдруг перестроив фразу. Между тем согласно договоренности с теми, кто поручил ему произнести эту речь, я был для него объектом предусмотренного нападения. Я был деятельным членом редколлегии порочной «Литературной Москвы», я выступил на пленуме, энергично возражая против статей, которые, бессовестно передергивая факты, топили и травили наш сборник. Только два члена редколлегии — Паустовский и я — не покаялись. Паустовский отказался, а мне, как неисправимо порочному, этого даже не предложили. Я был беззащитен, открыт со всех сторон, на меня можно было обрушиться, стереть в порошок. Почему же Федин обошел возможность, которая сама шла ему в руки? Это выглядит почти парадоксальным, но мне кажется, только потому, что мы оба были некогда «братьями во Серапионе».
И подтверждение нашлось. Я тяжело заболел вскоре после разгрома «Литературной Москвы». Это было воспаление паутинной оболочки мозга, результат гриппа, не имевшего, разумеется, ни малейшего отношения к литературной борьбе. Но когда Тамара Владимировна Иванова сказала Федину, что я тяжело заболел после его речи, он заплакал и сказал вошедшей дочери Нине:
— Тамара Владимировна говорит, что Веничка заболел из-за меня...
Оставляю на совести Тамары Владимировны Ивановой этот рассказ. Но он связывается с неупоминанием моей фамилии в речи, которая через два-три дня была напечатана в «Правде».
Да, память свободной дружбы в свободной «долитературе» еще долго занимала маленький краешек в этой истасканной компромиссами холодной душе. Но пришел час, когда и он затушевался, растаял, отступил перед всемогущей «заменой».
Я рассказал в предыдущей главе о том, как была встречена первая часть моей трилогии «Открытая книга». Не хочется повторять эту историю, но придется — однако совсем с другой точки зрения.
Это было время, когда высосанная из пальца антисемитская кампания против космополитизма была в разгаре. Трудно было воспользоваться для этой кампании моей «Открытой книгой», однако обличительный шум зацепил и ее. Мне не привыкать было к оплевыванию, швырянию камнями, замаскированным или прямым политическим доносам в печати. Но ни одна из моих книг еще не была удостоена такого внимания. Никогда не было, например, коллективных писем за тридцатью четырьмя подписями — вроде того, которое подготовил, подписал именами ленинградских студентов педагогического института и напечатал в «Литературной газете» тогдашний ее редактор В. В. Ермилов.
Я поехал объясняться, и разговор был таков, что я, с трудом удержавшись, чтобы не ударить Ермилова, выскочил, хлопнув в бешенстве дверью, и очнулся от полубессознательного состояния, лишь увидев себя с удивлением на станции метро «Дворец Советов». Мой ответ на коллективное письмо студентов сохранится в моем архиве (см. Приложение № 16). Конечно, это была организованная подлецом Ермиловым подделка. Мои ленинградские друзья проверили и доказали это.
Роман был обруган в передовой «Правды», и мне пришлось бы совсем туго, если бы К. Симонов (по его словам) не сказал Суслову, что «из руки работающего писателя нельзя же все-таки выбивать перо». Это была и самозащита — ведь он тогда редактировал «Новый мир», в котором была напечатана первая часть «Открытой книги».
Разумеется, наш «Союз против писателей», как назвал я его в своем письме Четвертому съезду, не остался в стороне от травли. Меня удивило, кстати, что на заседание правления, обсуждавшего книгу, приехала из Ленинграда В. Ф. Панова, которая тоже энергично выступила против моей «рефлектирующей героини». «Ей-тο это зачем?» — помнится, подумал я с удивлением.
Наконец подошло время, когда почему-то еще не высказавшая свое мнение секция прозы (председателем ее был Федин) должна была внести свой вклад в государственное дело.
Я зашел к нему, и мы поговорили.
— Ничего, брат, не поделаешь, — ласково-ободряюще сказал он. — Надо.
На чем было основано это загадочное «надо»? После шестнадцатой отрицательной статьи наступила пауза, и я стал надеяться, что мне удастся отсидеться, отмолчаться. Между тем после собрания секции прозы притихшая было травля могла возобновиться — и, как показали ближайшие месяцы, действительно возобновилась.
Все это вспомнилось мне не по той причине, что через без малого тридцать лет мне захотелось пожаловаться на несправедливость критики, тем более что трилогия после вынужденной мучительной работы все-таки устояла и многократно переиздавалась. Нет, в этой истории, после которой меня в течение трех лет не печатали, заслуживает внимания только одна, на первый взгляд незначительная, черта: фединское «надо».
Что означало для Федина это короткое слово? Во-первых, разрыв между тем, что он говорил, и тем, что он думал. Когда я рассказал ему о том, что Пастернак позвонил мне и похвалил первую часть «Открытой книги», Федин поддержал этот одобрительный отзыв.
Во-вторых, это «надо» означало именно тот отзвук на уже сложившееся отношение к роману, который от Федина ожидали. Ему и в голову не могло прийти, что он может за меня заступиться. Ведь это разительно не соответствовало бы тому положению, которое он занимал. Более того, ему показалось бы странным, если бы я решился намекнуть, что жду от него поддержки, защиты. И это действительно было бы странно в 1949 году.
Оставалось защищаться самому, и вместо раскаяния я придумал маневр, который должен был если не обезоружить моих противников, то по меньшей мере сгладить нападение. Как только собрание было открыто, я первый попросил слова и сказал, что по первой части нельзя судить обо всей трилогии в целом. А замысел второй и третьей... И, не касаясь критических оценок, я рассказал такую историю моей «рефлектирующей героини», против которой нечего было возразить поборникам социалистического реализма. Им оставалось только повторять требования, которые я предъявил самому себе как автору будущей второй и третьей части. Выступали, помнится, Вячеслав Ковалевский, Чаковский. Первый утверждал, что антипартийность моей «Открытой книги» объясняется тем, что в молодости я был формалистом и снобом, — и меня подмывало сказать, что в то время, как в начале двадцатых годов он шлялся по Москве с накрашенными из озорства губами, я трудился ночами при свете коптилки, перемежая изучение арабских рукописей историей русской литературы. Но я промолчал.
Заключая собрание, Федин сказал свое «надо».
— Мы вправе ожидать, — значительно произнес он, — что автор в дальнейшей работе учтет замечания критики и в результате мы получим хорошую книгу.
***
Ох уж это незаметное, как бы само собой разумеющееся, в самой литературной атмосфере растворенное «надо»! В сталинские десятилетия его принимали как должное, не соглашаться с ним — никому и в голову не приходило. Возражать против него — это значило немедленно и, как правило (по другой причине или без причины), угодить за решетку. В те годы с Федина за его «надо» не было спроса. Он не принял участия в войне, и это было заметно: на общем собрании Союза, когда Тихонов был «избран» председателем, Эренбург в своей страстной, раздраженной речи призывал «умолчать об умолчавших». Относился ли его упрек к Федину? Без сомнения. Но Федин поступил честнее, чем, скажем, Леонов, с его кудрявым, завитым и припудренным порохом «Взятием Великошумска». «Надо» в судьбе Федина стало играть заметную роль после Двадцатого съезда, именно в ту пору, когда оно уже стало постепенно терять свое магическое значение.
Он владел тогда неисчислимыми преимуществами высокого общественного положения. Он был знаменит и богат. Он пользовался уважением в правительстве, как видный писатель, за которым никогда не было никаких провинностей, неосторожных поступков. Он был рассудителен, значителен, тверд и представлял в глазах высших чиновников великую русскую литературу.
Но сохранить положение с помощью пера он уже не мог. Книги еще писались и переиздавались, «Первые радости» и «Необыкновенное лето», но это были никуда не двигавшиеся, упершиеся лбом в землю, вымученные, неподвижные книги. Пера не было, и для того, чтобы устоять, сохранить высокую позицию (а на первых порах даже и некоторую власть в Союзе писателей), нужна была вышеупомянутая «замена».
***
Зачем писать, если и без книг жизнь идет по восходящей кривой? Шолохов не пишет уже сорок лет, его вздорно-кровавые выступления не имеют ничего общего с литературой. Однако именно он возглавляет касту неприкосновенных, его Вешенское — это новая Ясная Поляна для тысяч читателей, от которых упорно, десятилетиями скрывают незавидную правду.
Я не сравниваю его с Фединым, который не пьет, у которого недурная, аккуратная библиотека, — по его холодному дому бродит, едва переставляя ноги, призрак значительности литературного дела. Но, увы, сходство есть, и заключается оно в том, что оба писателя бесповоротно потеряли равновесие между истиной и искусством. Впрочем, по отношению к Шолохову это сказано слишком многозначительно. Для «представительства», которым занялся Федин, он не может пригодиться.
Так начинается двойная жизнь: одна, реальная, — в прошлом, другая, мнимая, — в настоящем. Сделки с совестью начинаются, когда административная карьера предъявляет свои требования, не имеющие с литературой ничего общего. То в одном, то в другом случае приходится забывать о том, что призвание писателя обязывает в наше время как никогда, что за малейший допуск подгонки деталей нравственности он расплачивается тоже как никогда. Между произведениями писателя и его нравственной позицией знак равенства, потому что писатель и есть то, что он создает. И если он ничего не создает, если он существует на праведно или неправедно «нажитое», он превращается в представительного, но бездарного актера, которому сверху швыряют очередную роль.
Олеша как-то сказал, что Федин годится на любое амплуа. То он представитель старой русской интеллигенции, восторженно, без колебаний принявший Советскую власть. То его посылают за границу, чтобы показать мнимое монолитное единство советской литературы. То ему разрешается иметь «особое мнение», когда надо доказать, что социалистическая демократия отнюдь не стесняет свободу печати.
О том, как Федин предал «Литературную Москву», известно в литературных кругах. О том, что он из трусости притворился больным, чтобы не проводить в последний путь своего друга Пастернака, — известно. Но никто не знает о том, какую роль сыграл он в процессе Синявского и Даниэля. Никто не знает о его участии в многочисленных, долголетних хлопотах по изданию сочинений Льва Лунца — в конце книги я расскажу эту последнюю историю, потому что связь обусловленности с нравственной позицией сказалась в ней особенно ясно.
***
В начале шестидесятых годов я еще бывал у Федина, не потому, что я простил ему предательство по отношению к «Литературной Москве». Тогда я однажды прошел мимо него, не поздоровавшись (это было в Переделкине), и он окликнул меня с искренним изумлением.
— Веня! Ты не хочешь со мной здороваться?
Вокруг стояли знакомые и незнакомые люди, объясняться на ходу было невозможно. Я вернулся, и мы о чем-то поговорили. Потом я заходил к нему в связи с какими-то хлопотами — без него, как председателя Союза, невозможно было обойтись. И однажды случилось, что наша встреча, вызванная подобным поводом, состоялась в те дни, когда все порядочные люди были обеспокоены судьбой Синявского и Даниэля, заранее осужденных в газетных статьях, появившихся перед процессом.
Федин встретил меня радостно, спустился вниз — его кабинет и библиотека на втором этаже, — обнял за плечи, повел к себе, усадил, предложил кофе, чаю, вина. Я выбрал чай, который незамедлительно появился на маленьком столике в просторной правой половине кабинета, предназначенной для приема гостей.
Разговор был, как всегда, натянуто-радушный. Мне этот тон давался труднее, чем ему, — нечто отвратительное мерещилось мне в том, что мы как будто заранее условились не задевать то, что снова могло обострить наши отношения. И чувствовалось, между прочим, что мало кто бывает в этом большом, чистом — ни пылинки — доме. Все было устроено раз и навсегда: стулья, кресла, ковры, книги, письменный стол, на котором те бумаги, которым полагалось лежать направо, — лежали направо, а те, которым полагалось лежать налево, — лежали налево. Высокая, седая, интеллигентная дама с приятным лицом вошла, когда мы пили чай, и поздоровалась со мной — тоже вежливо, слегка натянуто и радушно. Она хозяйничала в доме после кончины Доры Сергеевны. Мы были знакомы. Поговорили о погоде, о семейных делах — и я уже собирался уходить, когда Федин заговорил о процессе Синявского — Даниэля.
Почему он вдруг коснулся обжигающей темы? Потому что она, как подернутый пеплом уголь, тускло светилась в глубине нашего разговора. Не было интеллигентного дома в Москве, где разговор, вольно или невольно, не касался бы этого нападения на смелую (и в ту пору еще беспримерную) попытку отстоять свободу в искусстве. Но дом Федина в данном случае легко мог оказаться исключением, если бы не одно исключительное обстоятельство, о котором ему захотелось рассказать мне. И опять-таки почему захотелось? Не знаю. Может быть, потому, что его томило желание высказаться с полной определенностью, — чтобы у меня не осталось ни малейших сомнений в том, как он относится к предстоящему процессу.
Исключительным обстоятельством было то, что к нему на днях приезжали Брежнев и Демичев — ни много ни мало. Зачем?
Я спросил:
— Посоветоваться?
Они интересовались мнением Федина и были заинтересованы — так я понял — в его одобрении. Более того: считая его самым выдающимся представителем советской интеллигенции, они как бы испрашивали его благословения. Без сомнения, это был, так сказать, «фарс альянса», который любят время от времени разыгрывать основатели «социалистической демократии».
И без одобрения и без благословения К. А. Федина процесс был предрешен. Но вот поехали и посоветовались. И как ни скрывал это Константин Александрович, он был глубоко польщен. Подумать только — ведь само «надо» воочию явилось в его дом, воплотившись в высших представителей этого загадочного фантома!
— И что же ты им сказал?
— Разумеется, одобрил, — твердо сказал Федин.
Я замолчал. Было бы бессмысленно, да и бесполезно убеждать его, и я окончательно убедился в этом, когда, не дождавшись ответа, он вдруг резко, с вызовом спросил меня:
— А тебе больше нравятся сталинские тройки?
— Мы потеряли Федина, — грустно сказал мне Казакевич, возвращаясь вместе со мной после собрания в Театре киноактера.
