Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Артюр Адамов. Человек и дитя. СПб.: Jaromír Hladík press, 2022. Перевод с французского Анастасии Захаревич. Содержание
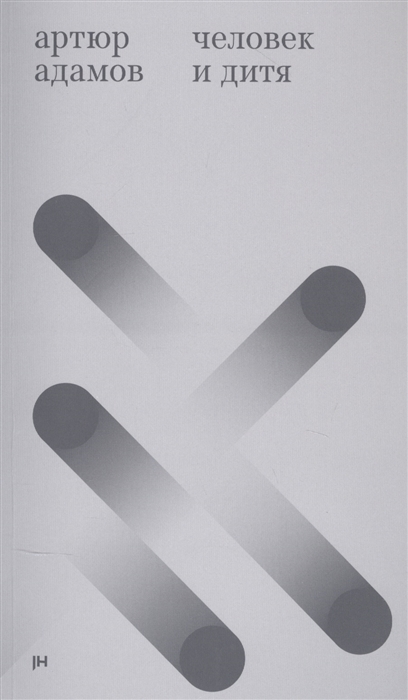 Арестован
Арестован
1936 год. Ирландия на юго-западе — фиолетовая под желтым небом.
Ненавижу Крамера, узнаю в нем своего отца. Зачем он решил сделаться моим опекуном? Зачем ему держать меня при себе?
Крамер скор на обещания: пусть Агата приезжает сюда, ко мне, что-нибудь придумаем. Агату тоже можно удочерить!
Кетти, маленькая горбунья с бесцветными глазами и детской, но чувственной улыбкой, учит меня английскому, она верит в русалок и гномов.
Ей снится, что она носит одежды, в которых утопает.
Я вдруг нашел себе дело по душе: буду искать мидии. Их едят: Крамеру это понравится. И можно барахтаться в грязи, увязая по уши.
Срываю эти обездвиженные существа в черных мундирах со скал, которые маскируют их и держат в плену. Режу руки в кровь. Знакомое смятенное наслаждение.
Прощаюсь с Крамером, удалось найти деньги, оставляю Ирландию. Хочу вернуться к Агате, к Марте, в «Ле Дом», на Монпарнас. Корабль, груженный ракушками, доставит меня в Камаре.
Как все молодые, я мечтаю о знакомствах со знаменитостями. В Камаре живет Сен-Поль-Ру, наведываюсь в его имение. Старый поэт очень устал, но соглашается меня принять. О своей дочери Дивин, которой лет пятьдесят, не меньше, он говорит так, словно она еще юница.
Показывает мне радиоточку: «Мы с Дивин эту штуку не включаем, ничего хорошего о мире она не сообщает».
1938 год. В Париже все чаще говорят, что будет война. Мы с другом Агаты боимся, как бы ее не арестовали, она ведь немка. Договорились отправить ее в Цюрих, где она будет жить у художника Хунцикера, он наш приятель.
Но еще до того, как Даладье и Чемберлен подписывают Мюнхенское соглашение, обеспечив тем самым «безопасность» Европы, растерянная Агата возвращается в Париж. И сразу приходит ко мне; мы оба плачем от радости и беспомощности.
Я живу на рю де Канетт, в той же обшарпанной гостинице, где и Роже Жильбер-Леконт. Как-то утром обнаруживаю его спящим прямо в одежде, из бедра торчит шприц. Пытаюсь разбудить, бесполезно.
В первый раз я увидел Югетт, когда она шла под дождем с больным ребенком на руках и пела ему революционные каталонские песни. Миликуа, отец малыша, анархист, еще в Барселоне. Наверняка в плену у франкистов.
Июль 1939 года. Теперь уже ясно, что война будет. Агата с моего согласия выходит за своего друга. Так, по крайней мере, она станет бельгийкой. Теперь ее не интернируют за то, что она немка, а на самом деле — антифашистка.
<...>
В «Ле Дом» знакомлюсь с Густавом Болином, молодым шведским художником — что-что, а рисовать он умеет. И еще с Дариной, ирландкой, цветущей брюнеткой с голубыми глазами. Через несколько дней она едет в Рим — там познакомится с Силоне, станет его женой, растолстеет.
Мы всю ночь целуемся.
Все там же, в «Ле Дом», Жан Каррив читает мне переведенный с немецкого рассказ. Имя автора — Франц Кафка. На нас с Мартой рассказ производит неизгладимое впечатление. С этого дня жизнь Марты изменится.
Югетт умирает в больнице Святой Анны, куда ее привезли на скорой с диагнозом шизофрения.
Июнь 1940 года. Великий исход. Наш поезд останавливают недалеко от Шартра. В грузовике меня погребает под собой девица с голыми ногами.
Итальянские самолеты пикируют на беженцев. Мы лежим в полях. Как сейчас слышу голос Вивианы ван Лир, она кричит отцу, торговцу картинами: «Видишь, папа, надо было оставаться в „Ле Дом“!»
Марсель. Я в одиночестве, без средств. Одну ночь коротаю в приюте Армии спасения, ссорюсь с ними, меня выгоняют, другую — с добровольцами, польскими и чешскими солдатами, в старом квартале шлюх, — теперь он уже снесен, — в комнатенке, где всюду грязь и клопы.
Встречаю Виктора Сержа, он как раз отплывает в Нью-Йорк. Видит на Бельгийской набережной меня, горе-разносчика, понурого продавца газет, — вот до чего я дошел! — успевает сказать, что всякое ремесло почетно; приводит в пример Панаита Истрати. Хочется отхлестать его по физиономии.
Я совершил один из немногих отважных поступков в своей жизни: приехал к Агате в Каркассон, где на принудительном поселении находятся все бельгийские беженцы. А ведь любого иностранца, перемещающегося из одного города в другой без специального разрешения префектуры, положено немедленно препроводить в «центр размещения». Но мне было все равно, я хотел увидеть Агату и я ее увидел. Разве я мог ее бросить?
В Каркассоне черным-черно от легавых.
Ночую у Рут, за которой особо пристальная слежка. У нее слишком много знакомых испанцев.
В вокзальном буфете, куда идет со мной Агата, мы встречаем Эльзу Триоле, Арагона, Полана, Бенда.
И снова Марсель. Роже Пиго — тогда друг Элизабет М., немецкой еврейки, которую чуть позже арестуют, кажется, в Валь-д’Изере, — при появлении фараонов запевает «Ла Маделон». Он делает это, чтобы у нас не попросили документы, — на поверку часто помогает.
Не удивительно, что я невзлюбил эту песенку, она пошлая сама по себе.
Я начинаю все больше пить.
Облава, а я иду один. Все участки переполнены, оказываюсь в просторном театре, где провожу ночь в декорациях к «Лоренцаччо». Много евреев.
Время от времени из темноты возникает полицейский и выкрикивает, коверкая, иностранные фамилии; все, кого назвали, выстраиваются в ряд и неподвижно, молча, безропотно ждут.
1941 год. Мое имя внесено в список Американского комитета. Можно облегченно вздохнуть. Наконец-то у меня будет комната, своя.
<...>
Париж оккупированный. Роже Жильбер-Леконт, последние дни
Январь 1942 года. Париж оккупирован. Вернувшись из Марселя, удивлен, что легавые не сцапали меня прямо на Лионском вокзале. Париж — свободный город для тех, кто не знает, как приходят арестовывать участников Сопротивления, евреев. И почему я не знал об этом так долго?
Сестра сообщает, что мать, у которой обострился туберкулез, теперь в больнице Бреванн.
«Ле Дом». В дальнем зале, где прежде кучковались и суетились еврейские эмигранты, пишет письмо одинокий и грустный немецкий солдат.
Рад снова увидеть Марту, а она тревожится за мужа, Жака Жермена, он в плену в Германии.
Художник Мишонц с желтой звездой, прицепленной, как бутоньерка, стоит перед «Ле Дом» на бульваре Монпарнас. Паясничает, машет руками. Войду — не войду?
Иду к Роже Жильбер-Леконту, не застаю его. Напротив его мастерской, в бистро, где он часами пил и разговаривал, справляюсь у хозяйки, мадам Фирма, пожилой дамы лет семидесяти: она сообщает, что Роже теперь живет у нее. «Заходите, он будет рад вас видеть». Вхожу в омерзительно грязную комнату: окурки, пепел, простыни, покрывающие паркет, завалены книгами. Это комната Роже. Он в постели и, разумеется, как всегда, под мухой; рядом привычно открыт портфель, в который он не глядя бросает свои рукописи. Я вхожу, его лицо преображается.
Спрашиваю, как Рут, его подруга-еврейка; он плачет, как дитя. Оказывается, под Каркасоном ее арестовала милиция и передала гестапо. «Если бы я мог на ней жениться, дать ей французское гражданство, но вы же помните декреты-законы господина Даладье». Помню, еще бы. Один из этих декретов запрещал французу жениться на иностранке без гражданства. Франция уже была фашистской.
В больнице Бреванн умирает мать. Больше я ее не увижу, не верится.
Мадам Фирмá и правда «усыновила» Роже.
Каждый день одна и та же сцена. Роже умоляет меня сходить к К., «выручить» его — так он говорит.
Его несчастное и красивое лицо совсем съежилось и с доверчивым выражением обращено ко мне.
Роже: синие круглые глаза, прозрачное, как эмаль, лицо, сам худой, согбенный, опирается на трость.
Моя жизнь превращается в кошмар. В четырнадцатом округе не найдется врача, у которого я не просиживал часами, не умолял выписать рецепт на любое имя, чтобы добыть опий. Героин и даже морфий с парижского рынка исчезли.
Роже, жеманный, как девочка.
И еще эта мания — хочет свести весь мир к единой системе. Книга, которую он так и не закончит, оставит в набросках, называется «Возвращение к целому». Зачем он только ссорился с Домалем: прежняя глупая метафизика «Большой игры» так в нем и сидит. Нет бы ему писать одни стихи. Они ведь здорово получаются.
Прошу Роже перечитать «Признание» — я почти закончил.
Он сидит за столиком в бистро мадам Фирмá, уже принял на грудь, веки его опускаются, он дремлет, но стоит работягам у стойки его окликнуть — тут же поднимается, угощает их выпивкой, рассказывает байки.
Он знает все обо всем: как устроены конные бега в Австралии, как организовать забастовку на заводе. Посетители — все его, теперь их очередь угощать. Роже всеобщий любимец, им восхищаются.
Роже весь в испарине, пошатывается. Кошмарные посещения Аньера: я отправляюсь туда вместе с ним, поскольку обещал попросить у доктора C. рецепт. Сам он уже просил накануне.
Несмотря на мои увещевания, Роже продолжает колоться опиумом, и это безумие, но эффект от укола в самом деле более сильный. Роже будет упорствовать, пока не подхватит столбняк.
Обнаруживаю, что в моей постели устроился неизвестно откуда взявшийся — я его раньше не видел — здоровенный черный кот. Прогоняю его.
Попав на скорой в больницу Бруссе, умирает Роже Жильбер-Леконт. Он только что получил наследство. Типичная история.
Рю Кенкампуа, дальний зал бистро, едва не падаю на девицу, с которой сижу. За соседним столом какие-то мужчины — сутенеры, судя по виду, — играют в карты. Прошу девицу ударить меня...
Встречаю приятеля, шведского художника Густава Болина, с которым познакомился во время странной войны. Он по-прежнему без ума от Ван Гога.
Меня нанимает доставщиком пожилая хозяйка книжной лавки с рю Сен-Пласид, сгибаюсь под тяжестью огромных брошюр. На помощь приходит Густав Болин, который хочет сделать мой портрет. Он тоже нанимается к старухе доставщиком, вместо меня.
В «Ле Дом» завсегдатаи — Марта, Болин, еще несколько человек, и я в их числе, — еще говорят, осмеливаются говорить о метафизике!
Элеонора Крамер, жена Крамера, входит в группу правых сопротивленцев. Чем чаще я у них бываю, тем больше ненавижу. Не страх, а лень помешала мне вступить в Сопротивление. Я мог бы поискать и найти настоящих друзей в F. T. P., это было бы несложно.
Элеонора и ее соратники арестованы. Бегу сообщить об этом Н.
Гестапо арестовывает Крамера по подозрению в работе на лондонскую газету. Мои попытки его освободить прерывает высадка союзников в Нормандии. Вертлявый берлинский баронишка с педерастическими замашками, которому представил меня старый друг Ирен, Филипп Лавастин, сокрушается: «Что я могу поделать? Гестапо решило отправить в Германию всех заключенных без разбора. Гестапо надо знать. Если там что-то решили, то всё...»
