В октябре в «Издательстве Ивана Лимбаха» в переводе Михаила Рудницкого вышла книга, которая впервые увидела свет в 2014 году в Германии. Уроженка Киева, эмигрантка Катя Петровская написала на немецком языке книгу о своей семье, часть которой погибла в Бабьем Яре во время холокоста. В 2017 году в «Новом издательстве» была опубликована книга Марии Степановой «Памяти памяти» — расследование истории семьи и одновременно культурологическое исследование памяти. Обе книги получили признание как на родине писательниц, так и за рубежом. При этом они перекликаются, отражая одну и ту же трагедию.
 «Кажется Эстер» Кати Петровской, по ее собственному признанию, во многом началась с фотографии-экспозиции из барака в лагере Маутхаузен, на которой исследовательница пыталась найти своего дедушку, но видела только глаза узников. Онемение, сопровождавшее Петровскую во время этой невстречи с прошлым, стало отправной точкой и одновременно помогло ей найти способ высказывания.
«Кажется Эстер» Кати Петровской, по ее собственному признанию, во многом началась с фотографии-экспозиции из барака в лагере Маутхаузен, на которой исследовательница пыталась найти своего дедушку, но видела только глаза узников. Онемение, сопровождавшее Петровскую во время этой невстречи с прошлым, стало отправной точкой и одновременно помогло ей найти способ высказывания.
«Впору сказать: невыносимо. Это невыносимо. Но для невыносимого, по идее, нет слов. А если слова способны это вынести — значит, выносимо».
Поиск языка — вот основная задача автора, занятого исторической реконструкцией собственных корней, задумавшего описать неописуемое и рассказать невыразимое. Катя Петровская интуитивно находит оригинальное решение — выбирает неродной для себя немецкий. Язык в ее книге исполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, он обеспечивает эффект остранения, ставит защитный экран, делающий рассказ о тех событиях приемлемым. Это как заглянуть вглубь барака при отсутствии возможности (и необходимости) входить внутрь. Наряду с этим язык используется как метод внутренней эмиграции, обеспечивая уход в область невысказанного, прочь от историй, знакомых исследовательнице по фрагментам семейной биографии. Наконец, неродной язык становится аналогией связи поколений. Династия, к которой принадлежит Катя Петровская, занималась обучением глухонемых детей, и теперь сама она, потомок учителей, примеряет на себя роль ученицы.
«...Немецкий стал для меня волшебной путеводной лозой в поисках своих, тех, кто столетиями обучал глухонемых детей говорить, — словно и мне, чтобы заговорить, надо выучить немой немецкий, и желание это мне самой было необъяснимо».
Исследование Марии Степановой в «Памяти памяти» тоже посвящено изучению своих корней через призму двух катастроф двадцатого века — Второй мировой и сталинских репрессий. Писательница опирается на обломки прошлого, которые ей удается собрать, — письма, задокументированные свидетельства родственников. Свой метод Степанова черпает из теории историка Марианны Хирш о постпамяти. Это механизм передачи информации через поколения, при котором травматичный опыт людей, переживших глобальные катастрофы, вплетается в опыт потомков и, не переработанный, не прожитый в свое время, влияет на будущие поколения.
Если Степанова в ходе своего исследования обнаруживает, что какие-то события в ее семье подвергались замалчиванию, то Петровская, наоборот, вспоминает, что ее родители бесконечно рассказывали о войне, холокосте, репрессиях. Но обе писательницы всерьез занялись своими проектами, когда непосредственные свидетели тех событий стали уходить. Катя Петровская уже была готова приступить к работе над книгой, когда умерла главная свидетельница, сестра матери тетя Лида.
«История — это когда вдруг не остается людей, которых можно спросить, есть только источники».
С попытки выудить из небытия и сохранить семейную историю и начинаются обе книги — «Кажется Эстер» и «Памяти памяти». Писательницами руководит желание дать голос мертвым, тем, кто не сумел или не успел высказаться в свое время, чтобы восстановить справедливость, напомнить о ценности каждой конкретной жизни. Но у Степановой это намерение идет вровень с чувством вины за то, что она подглядывает за чужой жизнью, читает чужие дневники и письма. Петровскую волнует скорее не вопрос о «праве говорить», ее проблема — найти способ, как это делать. Решение, как сказано выше, пришло с немецким языком — он стал методом выталкивания эмоций через слова, аналогией с попыткой глухонемого научиться говорить. Вопрос о праве рассказывать чужую историю перед Катей Петровской встает лишь однажды: в том самом бараке, когда она видит «эти глаза» и думает, «что я вообще здесь делаю?» Это больше похоже на растерянность. Растерянность — главная интонация обеих книг. Исследовательницы, затеявшие поиск собственных корней, стоят посреди истории как в воронке, оставшейся от взрыва.
«Чего не сделаешь ради попытки толкованием исторгнуть смерть из бытия, словно нет в мире бесследного исчезновения, только приятие и приход».
В «Памяти памяти» Мария Степанова делает попытку выразить невыразимое через чувственный опыт других людей, прибегает к помощи дополнительных материалов — свидетелей эпохи. Подражая Зебальду, она совершает путешествие во времени и пространстве, и одновременно на помощь ей приходит вся история культуры века потрясений. Так в ее книге, наравне с описанием собственных путешествий и результатов изысканий, появляются целые главы, посвященные Шарлотте Соломон и ее графическому роману, фотографиям Франчески Вудворт и многому другому. С помощью этих объектов она объясняет собственное восприятие истории, приводит аналогии, понятные стороннему наблюдателю — читателю.
Катя Петровская, помимо документов, опирается на рассказы выживших и собственный опыт путешествий, опыт своей семьи, доказательства, добытые ею самой. Ее история топологически начинается на берлинском вокзале. У Степановой — нехватка «живого» материала порождает необходимость обращаться к «рифме» истории, у Петровской поиск доказательств превращается в попытку найти своих в «строительном мусоре истории».
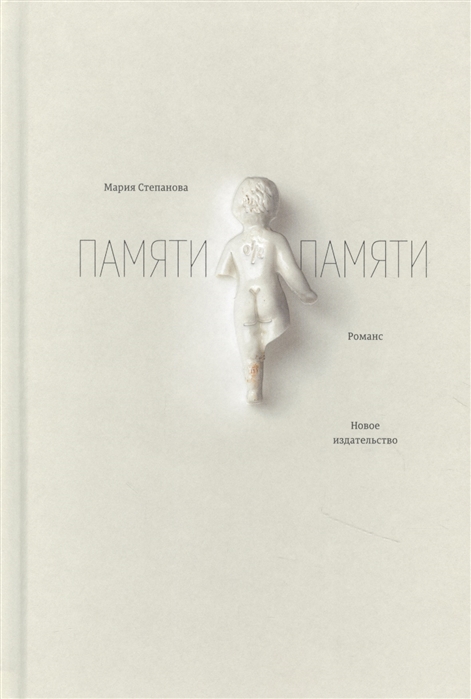
Одно из ключевых понятий «Памяти памяти» — все «рифмуется». Незнакомые друг с другом люди встречаются на поле истории, где, так и не узнав друг друга, становятся соседями по веку, подобно тому, как одна и та же тема может схожим образом отразиться в разных произведениях. Степанова представляет свою прабабушку Сарру гуляющей по тем же улицам, где примерно в то же время ходили, «задевали друг друга рукавами», но не подозревали друг о друге Гертруда Стайн, Пабло Пикассо, Марина Цветаева. Бабушка Петровской оказывается соседкой «во времени и пространстве» Януша Корчака, который работал в Киеве над книгой «Как любить ребенка». Петровская прибегает к сослагательному наклонению истории: вернись ее родственники тогда же в Варшаву, стали бы соседями Корчака «по всем последующим адресам и по участи».
Книги Кати Петровской и Марии Степановой рифмуются еще одним совершенно поразительным образом. Степанова посещает двор в Саратове, где когда-то жил ее дедушка, примеряет на себя это прошлое, не-бывшее с ней, помещает его в особую рамку в памяти... и позже выясняет, что ей назвали неверный адрес. Примерно так же Петровская примеряет «к себе» фотографию довоенного Киева, улицу Чепла, дом 14. Когда эта фотография, этот дом с людьми на его фоне становятся ей близки, исследовательница узнает от матери, что нужен был дом под номером 16. Но Петровской повезло больше, чем Степановой — краешек дома номер 16 все-таки попал в кадр. Случайная точка, пространства «не-памяти», воспоминание о том, чего не было, выражают общую интонацию всех исследователей невозможного. Это точка памяти выживших, отсчет, разветвление тропок истории. Этот момент — невидимый стержень, вокруг которого выстроены обе книги.
«Кажется Эстер» и «Памяти памяти» — не совсем про извлечение и спасение мертвых из когтей небытия, они в том числе — и про выживших. Катя Петровская и Мария Степанова обе пытаются определить себя через историю своей семьи, делают попытку прорваться сквозь лакуну памяти к себе. Общий вопрос Петровской и Степановой — кто я и из какого места в истории я говорю? Кто я, если я не знаю, кем были они?
Петровская: «Я думаю по-русски, ищу свою еврейскую родню и пишу по-немецки. Мне посчастливилось очутиться в провале межъязычья, перемещаться в непрестанной смене и путанице ролей и перспектив. Кто и кого здесь покорил, кто здесь мои, кто чужие, на чьем я берегу?»
Степанова: «Предпочитать семейную историю собственной — это было бы полбеды; вопрос скорее в крупности, в том, какое место она занимает на внутренней карте... Рассказ о себе оказывается рассказом о предках, он разворачиваются за спиной оперными полухориями, предоставляя тебе солировать — только вот музыка написана не меньше, чем семьдесят лет назад».
Поэтому у Петровской так важна оказывается эта «Кажется Эстер», настолько важна, что в честь нее названа вся книга, хотя даже имя ее находится под вопросом («Кажется...»). Без Эстер картина не полна, без нее нет самой исследовательницы. Эстер — это бабушка отца, которая должна была погибнуть в Бабьем Яре, но не добралась туда, ее убили по дороге. Петровская бережно реконструирует посмертный путь прабабушки, о котором не осталось никаких свидетельств, превращает историю в подвид автофикшна, попытку оказаться на том самом месте. И попытка удается: проходя последний путь «Кажется Эстер», Петровская одновременно рассказывает историю отца, в войну — маленького мальчика, которого, по семейному преданию, успели посадить в эвакуационный автомобиль, освободив для него место — убрав фикус. Это очень тонко подмеченная граница соприкосновения истории выживших и невыживших. Подспудная история, тайное «зачем» всех семейных историй двадцатого века.
Вместе с этим фикусом, который мог и не дать отцу Кати Петровской места в жизни, вместе с фотографией дома, которого больше нет, с памятью о людях, которых убили, к самой писательнице приходит осознание, что в списках потенциально убитых есть — всегда было — и ее имя.
«Я вдруг перестаю понимать, как могла вообразить, будто меня лично эта участь миновала бы».
Петровская проговаривает вслух страх едва-не-случившегося небытия, который испытывают все выжившие. Потомки носят его в себе с самого рождения, пусть и не зная об этом. Это то, о чем Мария Степанова в своей книге говорит: «Ситуация выжившего неизбежно провоцирует своего рода этический расфокус: сложно не понимать, что место, которое ты занимаешь в воздухе этого мира, с легкостью могло быть заполнено кем-то другим». В этом и заключается главная трагедия двадцатого века, увиденная и переданная с большой скрупулезностью и достоверностью, почти прожитая заново исследовательницами и писательницами Катей Петровской и Марией Степановой.
Посреди истории двадцатого века — черная дыра, в которую утекают время и пространство. Каждый раз, когда мы пытаемся осмыслить свою историю, мы проваливаемся в эту черную дыру, и оттуда нет возврата. Мозг способен осознать цифры, но совершенно невозможно понять и представить себе, что это такое, когда примерно за пять лет люди уничтожили шесть миллионов себе подобных. Пока мы не разберемся с этим вопросом о прошлом, не может быть никаких планов на будущее. Поэтому у нас, что в жизни, что в литературе, так буксует настоящее. Мы не можем двигаться вперед, пока миллионы безвестных, неотрефлексированных, непрожитых жизней тянутся к нам из этой черной дыры.
