Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Нижеследующие рецензии были опубликованы в журнале «Печать и революция» № 4 за 1922 год.
Михаил Зощенко. Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова. П.: Эрато, 1922
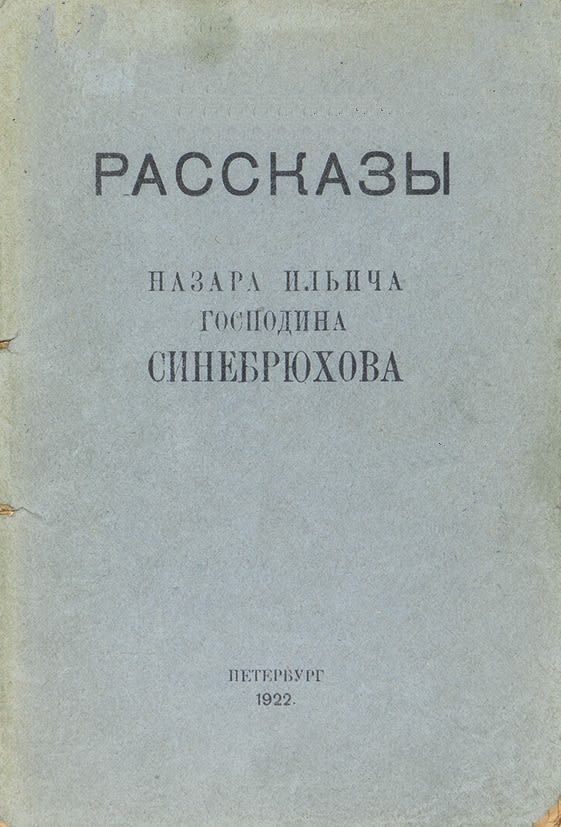 Стилизация как метод художественного воздействия всегда играла в литературе второстепенную роль. У писателей крупных она являлась побочным, вводным приемом, служившим для характеристики того или иного персонажа, того или иного эпизода. Самодовлеющим этот прием был у писателей второстепенных. Характерно, что у крупных художников прием стилизации обычно покрывался общей высокой художественностью выполнения — рассказы Рудого Панька, — повести Белкина, — частичная стилизация у Достоевского. И наоборот, у второстепенных величин метод этот всегда выпирал наружу, апеллировал к постоянной специфической настроенности читателя, к необходимости подмечать те особые «словечки и выраженьица», которые обусловливали такой прием.
Стилизация как метод художественного воздействия всегда играла в литературе второстепенную роль. У писателей крупных она являлась побочным, вводным приемом, служившим для характеристики того или иного персонажа, того или иного эпизода. Самодовлеющим этот прием был у писателей второстепенных. Характерно, что у крупных художников прием стилизации обычно покрывался общей высокой художественностью выполнения — рассказы Рудого Панька, — повести Белкина, — частичная стилизация у Достоевского. И наоборот, у второстепенных величин метод этот всегда выпирал наружу, апеллировал к постоянной специфической настроенности читателя, к необходимости подмечать те особые «словечки и выраженьица», которые обусловливали такой прием.
Именно так трактовался этот прием Лесковым, Горбуновым, Островским, Щедриным. И не даром Писарев в свое время возмущался перефандосами Салтыкова-Щедрина, указывая, что здесь смех читателя направлен не на уродства описываемого положения, а на уродство самого словечка, самого выражения.
М. Зощенко, стилизуя свой язык под штабного писаря, идет по второму из указанных нами путей. Поэтому фактура рассказов достаточно однообразна, фабула — анекдотична, а затраченное на прочтение рассказов время не оправдано ни внутренним, ни внешним их мастерством.
Тем не менее отказать автору в известном волении к классической ценности языка нельзя. Приходится предположить, что «Рассказы Синебрюхова» — оселок, на котором пробует дарование молодой автор. Но в таком случае ни в печать, ни в продажу эти первые шага пускать ни в коем случае не следовало бы.
Николай Асеев
Андрей Белый. Офейра. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1922
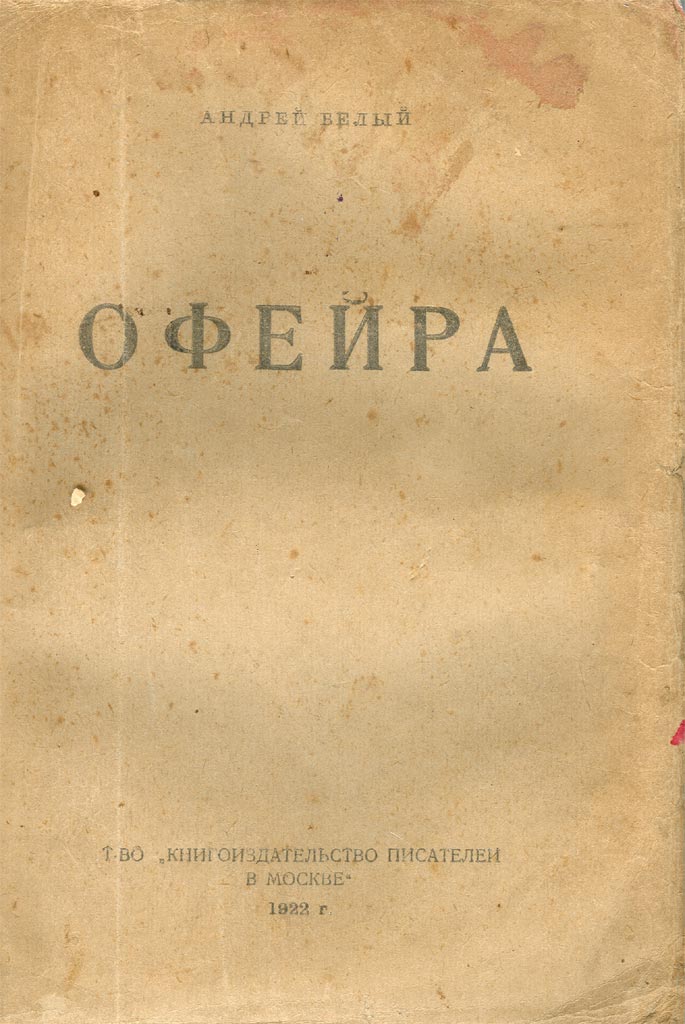 Большинство современных описаний стран заморских обязаны своему происхождению своей формой-содержанием. Происхождение же это обусловлено тем, что путешественнику-писателю нужны деньги на путешествие и добывает он их путем корреспондирования в газеты. Не избегли этой участи и очерки А. Белого, в свое, довоенное время в значительной мере напечатанные в «Утре России», а теперь, уже после многого пережитого и перестроенного, воспроизводимые отдельной книгой.
Большинство современных описаний стран заморских обязаны своему происхождению своей формой-содержанием. Происхождение же это обусловлено тем, что путешественнику-писателю нужны деньги на путешествие и добывает он их путем корреспондирования в газеты. Не избегли этой участи и очерки А. Белого, в свое, довоенное время в значительной мере напечатанные в «Утре России», а теперь, уже после многого пережитого и перестроенного, воспроизводимые отдельной книгой.
Затруднительность положения автора заключалась в том, что ему вначале приходилось описывать страну, столь использованную путешественниками, как Сицилия: место, истоптанное всеми туристами и изрегистрированное всеми путеводителями, — ясное дело, что простое описательство было неинтересно, приходилось добавлять своего; это свое, естественно, оказалось мистикой, а в связи с юбилейной датой — вагнеризмом. Приближался срок истечения литературных прав Байрейта на постановку «Парсифаля», и пресса всех заинтересованных стран муссировала эту оперу. Первая часть «сенсаций» А. Белого посвящена этому неблагодарному занятию, и рассуждения его построены по столь новой схеме, как антитеза между Востоком и Западом, арабской и романской культурами. По-видимому, ничего больше в Сицилии придумать самому не удалось, а внешний мир давал уже записанные другими и достаточно литературно-приевшиеся мотивы живописности пейзажа и романтических лохмотников. В Тунисе дела пошли лучше: философия мистики исчезает неведомо куда и появляется некоторая реальность, правда, излагаемая с той же стремительной манифестацией преклонения перед самобытностью и живописностью арабства, осуждением гнилой Европы, восхвалением добрых, свободных и гордых туземцев, к какой нас приучил Вас. Ив. Немирович-Данченко в аналогичных случаях. Явление, впрочем, законное — путешествие предпринимается с единственной целью «развлечься», так как Пятисобачий переулок надоел автору, и он искренно рад благословить все, что не напоминает ему географии арбатского участка. Интересно не это, а что надоело тогдашнему А. Белому в Пятисобачьем переулке. Читатель не сразу до этого доберется.
Да и автор не вполне и не сразу об этом догадывался. Вначале были мотивы той чеховской дамы, которая бежала на курорт просто от серого забора («Дама с собачкой»), этот мотив, свойственный «дачнику вообще», прочно держится во все время пребывания А. Белого в Италии. Понадобилось заехать в Тунис, чтобы впечатление конкретизовалось. Оно очень любопытно и найдет свое место в истории русской интеллигенции десятых годов нашего века.
«Невольно мне помнится выспренний стиль всех заседаний редакции (по-видимому, „Мусагета“. И. А.)... заострении культуры столетий в Москве, где соль жизни Европы; собрание избранных есть соль Москвы; а собрание редакции — соль этой соли, или „пуп“ европейской культуры; вопросы, которыми мы занимались в Москве, были „пупного“ свойства; мы пухли от пупности» (стр. 189). Наивный читатель может подумать, что автор осуждает «пупность» вообще и в частности первые полтораста страниц, наполненные этим замечательным философским элементом, — ничуть не бывало: на той же 189-й странице красуется разъяснение: «Пуп-то увидим мы: в Иерусалиме есть пуп, не в Москве». Дальнейшие события становятся нам понятны: о них А. Белый повествовал в ранее выпущенных работах, но предварения великих событий содержатся и в «Офейре». Ясно, например, что пресловутый «пуп земли», заподозренный Гете в Сицилии и перемещенный временно в Иерусалим, окажется потом в Дорнахе. Впрочем, он еще далек от стабилизации. Формула, к счастью, известна. «Ах, господин доктор, до чего смешон мой сосед: он уверяет и даже уверен сам, что он — Христос. Полечите его как следует. Можно ли говорить такой вздор. Ведь Христос-то — я». Согласимся заранее с еще не обнародованным, но подлежащим оглашению догматом: «пуп земли есмь аз, А. Белый, и да не будет тебе иного пупа, кроме меня».
С высоты такого величия можно покрывать, конечно, взглядами самого величественного презрения приземистую классовую точку зрения (стр. 197) и кривляться пустыми словами, пустыми фразами вокруг пустого места бедекера [путеводителя. — Прим. ред.] на протяжении двухсот страниц ин-октаво. Читать эту «манифестацию духа» особенно мучительно потому, что она написана белым стихом неважного качества, притом типографски искаженным под прозу.
Стр. 190 (чтоб недалеко ходить): «Высшая пупная раса, что знаешь о гордом величии древних кушитских ученых, что знаешь о тонких кружках гуманистов. В былом Тимбукту, где гремели Петрарки, где негр Али-Баба с кружком просвещенных друзей собирал манускрипты багдадской, сирийской, испанской, египетской мудрости, где Салютато, Николи, Манетти и Поджно трудолюбиво копили, веками отстоенный, мед; мы его не копили, не копим» и т. д. до бесконечности. Очень противно получается в книге. В фельетоне, вероятно, было более выносимо, хотя не знаю, не пробовал.
Иван Аксенов
Леонид Гроссман. Три современника. М.: Книгоиздательство писателей в Москве, 1922
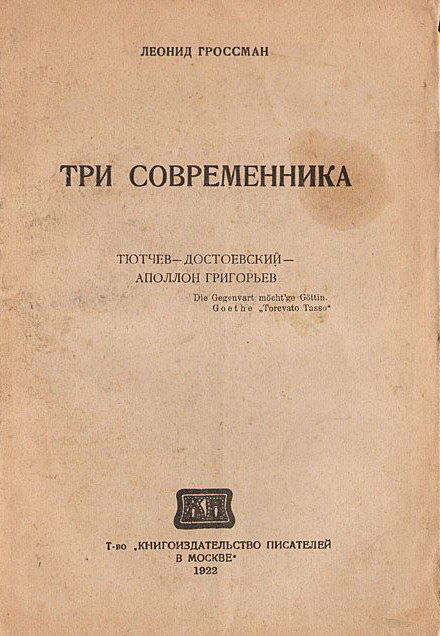 Очерки, составившие книгу, посвящены Тютчеву, Ап. Григорьеву и Достоевскому.
Очерки, составившие книгу, посвящены Тютчеву, Ап. Григорьеву и Достоевскому.
Наиболее спорная и новая по материалу статья — о Тютчеве, о его политических воззрениях. Автор старается доказать, что отношение поэта к революции было сложнее, чем это думали до сих пор на основании его славянофильских статей, — «идеолог самодержавия и апостол всемирной теократии», он с ужасом отвращался от революции. Но как творческая натура, вечно стремящаяся к последним граням освобождения, как жадный созерцатель «древнего хаоса», он чуял в революции родное, близкое и неудержимо влекущее к себе. Отсюда его глубокая внутренняя разорванность. Нам думается, основная разорванность Тютчева, или дуализм поэтической стихии, вряд ли соответствует его политическим увлечениям, навеянным отчасти традицией, отчасти впечатлениями минуты.
Ведь если прибегать к таким отвлеченно-психологическим аналогиям, то придется и Пушкина зачислить в ряды крайних революционеров на основании его «Пира во время чумы».
И как ни сильно звучит отрывок из письма Тютчева: «красный запад и спасет нас в свою очередь», не следует забывать, что этому отрывку можно противопоставить два других из писем к барону Пфеффелю от 14 марта 1848 г. и 10 августа 1870 г., где оба раза Тютчев неизменно называет революцию «роком».
И если нельзя отрицать некоторой сложности Тютчева как политика, то вряд ли следует эпиграмму или несколько отрывков из писем считать решающими для него, законченного аристократа и убежденного славянофила, не мыслившего Россию не монархией.
Поэтому несравненно лучше удались Гроссману те страницы, где переданы опасения и страх поэта, его чувство конца монархии. Эти опасения, несомненно, были, и из них, как крик отчаяния, могло случайно вырваться «приятие» революции.
Статья об отношении Достоевского к Западной Европе построена на более фактическом и прочном основании. Это менее рискованный и менее гадательный ответ на поставленную тему. Хорошо изучен «Дневник писателя», письма, все художественные произведения Достоевского, в которых говорится о Западе.
Общий вывод этого изучения таков: «При всех своих прозрениях Достоевский в политическом отношении не был пророком».
С этим выводом спорить не приходится, поскольку под пророчеством понимается безошибочное угадывание событий, но, с другой стороны, недостаточно отмечена воистину пророческая дрожь Достоевского, которая била его всякий раз при мысли об отношениях России к Западу. Не только в том смысле, что он чувствовал Россию и Запад как два мира — старый и новый, омертвелый и мессианский, — но и в том смысле, что он никогда не верил в добрые отношения Запада к России, предчувствовал в этих отношениях трагедию и непримиримость. Здесь, быть может, Достоевский оказался более проницательным, чем в другом, когда по самому основному качеству своего темперамента он мог быть только односторонним, преувеличивающим. Автор хорошо проанализировал эту слабую сторону угадываний Достоевского, но все же мы никак не можем согласиться с тем, что «Достоевский-публицист был всецело человеком бисмарковской эпохи, строящим мировую политику с предполагаемых точек зрения немецкого канцлера». Этому решительно противоречит весь дух «Дневника писателя» и особенно его записных книжек. Человек бисмарковской эпохи — это прежде всего человек трезвый, а какая же трезвость была у Достоевского? Во всяком случае, ее не хватило бы на «предполагаемые точки зрения немецкого канцлера». Не следовало также называть кн. Мышкина «русским Парсифалем».
Статья об Ап. Григорьеве связана с двумя другими только «современностью»; Гроссман рассматривает его только как критика и оценивает высоко. Дается общая характеристика его метода, выросшего на основе шеллингианства и вообще немецкой идеалистической философии. Излишними нам показались сопоставления с Бергсоном, — достаточно было упомянуть имя Шеллинга. Жаль, что автор не остановился на письмах Ап. Григорьева, — в них он бы нашел ряд образов, характерных для этого художника-мыслителя 1860-х годов.
Константин Локс
«Вещь», № 1, 2 и 3. Берлин, 1922
 Международное искусство, несомненно, уперлось в тупик. Его правое крыло беспомощно повторяет сезанновский и прочие зады, его левая часть, перейдя к беспредметным композициям, остановилась перед невозможностью дальнейшей эволюции ввиду отсутствия новых организационных задач, ввиду превращения продуктов творчества в окончательную, никакой «изобразительностью» не прикрытую (как у сезанновцев) самоцель.
Международное искусство, несомненно, уперлось в тупик. Его правое крыло беспомощно повторяет сезанновский и прочие зады, его левая часть, перейдя к беспредметным композициям, остановилась перед невозможностью дальнейшей эволюции ввиду отсутствия новых организационных задач, ввиду превращения продуктов творчества в окончательную, никакой «изобразительностью» не прикрытую (как у сезанновцев) самоцель.
Понадобилась пролетарская революция для того, чтобы «беспредметничество просто» перешло в конструктивизм, то есть в лабораторную обработку материалов с производственными задачами. Русское искусство нашло себе выход в слиянии индустриального труда с трудом художественным, сдвинутым с мертвой точки повелительными требованиями рабочей диктатуры и ее социальных идей.
На Западе ничего подобного, конечно, не произошло. Там левое искусство продолжает барахтаться в болоте самодельщины и индивидуализма. Правда, под влиянием могучих успехов техники западные беспредметники отехнизировались, то есть впитали в себя технику чисто идеологически, стали чертить, а не рисовать, употреблять геометрические и технические формы, но все это в пределах все той же эстетической станковой картинки. Да это и понятно: при настоящих условиях художникам буржуазии Европы отказаться от картины — это значит отказаться от всякого творчества; буржуазия знает либо голую технику, либо прикладничество, внешнее украшение вещей; левым путь в жизнь там отрезан.
Но и в России, несмотря на все растущие возможности (начинания профсоюзов, реорганизация Пролеткульта), идея производственного искусства не целиком захватила левых; человеческая психика сама собой не перестраивается в 2-3 года, и для многих из левых оказалось невозможным отречься от старого, — они решили примирить родную им, любимую самодельщину с новым представлением об искусстве.
Берлинский журнал «Вещь» и явился в результате своеобразного стыка между этой группой русских художников и левых художников «заграницы». Поскольку «Вещь» — за искусство конструктивное, не украшающее жизни, но организующее ее, поскольку для «Вещи» «искусство — созидание новых вещей», поскольку, наконец, «Вещь» «не мыслит себе созидания новых форм в искусстве вне преображения общественных форм» (цитаты из декларации редакторов), постольку она представляет собою глубоко прогрессивное и, несомненно, революционное для Запада явление; нет поэтому ничего удивительного, что под знаменем «Вещи», а тем самым под знаменем Советской России, соединилось все молодое и жизненное, что есть вне России (Чарли Чаплин, Крэг, Карл Эйнштейн, Глез, Голл, Леже, Жюль Ромэн, Северини, Вильдрак и т. д.). Кроме того, «Вещь» чрезвычайно симптоматична как идеологический манифест художественного отряда наиболее передовой современной интеллигенции, а именно интеллигенции технической, впервые выдвинувшей перед собой проблему организации вещей (вот темы двух номеров журнала: «Музыка и машина», «Беспредметный кинематограф», «Оптофонетика», «Дома сериями», «Литература и кинематограф», «Татлинова башня», «О фотогении», «О новой поэтической технике» и т. п.).
Но, с другой стороны, «Вещь» явно оппортунистична. Ее декларация утверждает: «Всякое организованное произведение — дом, поэма или картина — целесообразная вещь», в 3-м номере эта мысль иллюстрирована более чем наглядно, — даны две фотографии, паровоза и квадратика из кухни Малевича, а сбоку напечатано: «техническая вещь — супрематическая вещь».
«Вещь» не хочет и не может понять, что квадратик Малевича — это не вещь, тем более не целесообразная вещь (как паровоз), а голая зрительная форма. Оппортунизм «Вещи» — это оппортунизм социальных условий, находящихся в состоянии брожения и сдвига, но не преодоленных революцией, — это оппортунизм тех, кто хочет нового, но, не чувствуя под собой новой почвы, продолжает трусливо держаться за старое. Нет никакого сомнения, что революционный процесс добьется и на Западе полного отказа от картины, предоставив художнику реальные возможности в сфере производства, в сфере подлинно органического созидания жизни. «Вещь» — переходное явление, и, как таковое, она полезна, но здесь перед нами только первый шаг, второй будет сделан самой жизнью в лице западного пролетариата, и тогда название журнала, действительно, целиком ответит его задачам.
«Вещь», хорошо иллюстрированная произведениями левых художников, помещает много стихов (Маяковского, Асеева, Есенина, Вильдрака, Ромэна, Ив. Голла и других). Печатается журнал на 3 языках: русском, немецком и французском. Его типографский монтаж в соответствии с идеями «Вещи» сработан в стиле новейших технических изданий.
Вообще, «Вещь» не так далека от эстетизма, как ей кажется. Наоборот: вместо того, чтобы строить новую эстетику — эстетику вечно изменяющейся, совершенствующейся, технически и социально-целесообразной реальности, — она провозглашает новый штамп все того же эстетизма, но с другим фетишем: современной техникой. Для нее техника не средство, а цель, и в этом ее основной порок, от которого ей следовало бы поскорее излечиться.
Борис Арватов
Генрих Вёльфлин. Истолкование искусства. М.: Дельфин, 1922. Перевод и предисловие Б. Виппера
 Рекомендация Б. Виппера маленькой книжечки Вёльфлина как «умной и остроумной» верно подчеркивает ее характер. Она представляет прекрасное по сжатости изложение взглядов швейцарского искусствоведа. Но она в самом деле, пожалуй, чересчур осторожна, чтобы не вызывать некоторых, порой слишком распространительных толкований. Сомнения возникают не по поводу самого Вёльфлина, а его интерпретаторов.
Рекомендация Б. Виппера маленькой книжечки Вёльфлина как «умной и остроумной» верно подчеркивает ее характер. Она представляет прекрасное по сжатости изложение взглядов швейцарского искусствоведа. Но она в самом деле, пожалуй, чересчур осторожна, чтобы не вызывать некоторых, порой слишком распространительных толкований. Сомнения возникают не по поводу самого Вёльфлина, а его интерпретаторов.
Такого рода мысли, что отдельный элемент формы получает свой смысл лишь в «одновременном охвате целого» произведения (11 стр.), что оценить художественную вещь можно лишь ее «собственным, а не чужим мерилом» (27 стр.), что «решающее в подходе к искусству заложено в эстетической оценке» (37 и 25 стр.), вошли, кажется, в плоть и кровь не только «формалистов», но и всякого «уважающего себя» искусствоведа, на какой бы точке зрения он ни стоял, лишь бы не считал в числе своих предков (блаженной памяти!) Стасова. Но не в этих отдельных, неоспоримых, давно знакомых, несомненно, ценных мыслях центр тяжести, а в том толковании формального метода, которое дается вёльфлиновской теории в искусствоведнических кругах.
Нет сомнения, что узкий «формализм», рассматривавший произведение искусства «вне времени и пространства» лишь в его «материальной» структуре, очень быстро изжил себя. К такого рода «формалистам» Вёльфлина, конечно, не отнесешь, как и они не сочтут его «своим». Но существует и другая крайность толкования формального метода, всецело покоящаяся на исторической основе понимания искусства. Это, так сказать, особая интерпретация формального метода в истории искусств, представляющая до некоторой степени contradictio in adjecto, если поставить твердые «точки над и» обоих понятий: истории искусств и формального толкования произведения искусства. Я склонен категорически противопоставлять этот формальный метод в истории искусства — формальному методу теории искусства.
При толковании взглядов Вёльфлина и «перетаскивании» его в разные лагери возникают разные интерпретации, рождающиеся потому, что Вёльфлин, боясь обвинения в узости, с крайней осторожностью трактует некоторые, чрезвычайно щепетильные для точного выяснения позиции вопросы.
«Истолковать художественный памятник — значит поставить оторванное явление в общую историческую связь — для того, чтобы сделать его по-настоящему понятным (10 стр.). «Кто привык рассматривать мир как историк, тому знакомо чувство глубокой радости, когда глаз начинает различать, хотя бы на небольшом протяжении, причины и ход событий, когда все существующее теряет видимость случайного и становится необходимостью его возникновения» (19 стр.). «Изучай эпоху, и ты постигнешь ее стиль» (20 стр.). «История искусства переплетается с историей хозяйства, общества, государства» (21 стр.). «Для истолкования памятников искусства мы привлекаем жизнь во всех ее проявлениях». Из этих цитат видно, что путь Вёльфлина — не путь теоретика, утверждающего самодовление формы, а путь историка, лишь обновляющего сорную заросль академической рутинной истории искусства (ничего общего с искусством не имеющей) привнесением в историческое изучение искусства превалирующего значения формы, утверждающего смысл искусства «не в широких группах, не в стиле, а в отдельном произведении» (37 стр.) и вносящего эстетическую оценку, оценку качественную, как основную проблему истолкования искусства и, что важно, истории искусства.
Благодаря своей «историчности», Вёльфлин так близок к московским искусствоведам, почти исключительно историкам, а не теоретикам искусства. И вот тут-то происходит перегибание вёльфлиновских положений в другую сторону, затушевывание всех наиболее существенных достижений и оседлывание старого конька: искусство как выражение «стиля» времени и народа... Такого рода формальный метод, выражаясь мягко и тактично, вводит лишь в заблуждение о существе этого понятия в искусствоведении.
Во всяком случае маленькая книжечка, изданная «Дельфином», представляет ценность как чрезвычайно сжатое изложение взглядов Вёльфлина. К недостаткам этого изложения можно отнести то, что ни из одного примера не сделано соответствующих выводов и что все они не являются поэтому яркими иллюстрациями высказываемых положений.
Николай Тарабукин
